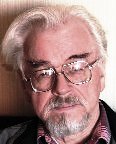ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Г.С.
Лисичкин. «План и рынок»: научная дискуссия для массовой аудитории»
Э.М.
Максимова. «Здесь я могла работать, не изменяя себе»
А.И.
Волков. «Из публицистов-технологов мы превращались в обществоведов»
В.Э.
Шляпентох. «Я знал, что думают читатели «Известий», «Правды», «Труда»,
«Литературной газеты»
«ПЛАН И РЫНОК»: НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ ДЛЯ
МАССОВОЙ АУДИТОРИИ
– Геннадий Степанович, в 60-е годы вы были известным
публицистом-экономистом, возмутителем спокойствия, «подрывавшим» устои общества
своими рыночными идеями. Вашу книгу «План и рынок», изданную в то время у нас и
за рубежом, одни взахлеб хвалили, другие нещадно ругали, что, собственно,
сказалось потом (не лучшим образом) на вашей жизни и научной карьере. Если взглянуть
на все это сегодняшними глазами: что вы стремились утвердить, чего добивались –
радикальных перемен или определенного совершенствования существовавшей системы?
– Именно вот это слово –
совершенствование – мне больше всего нравится, потому что ни о каком сломе
системы, в которой я жил и иной не знал, естественно, и мыслей не было. А если
конкретнее – я лично хотел повернуть внимание общества к сельскому хозяйству.
Мне казалось тогда, кажется и сейчас, что возрождение России может начаться
именно с сельского хозяйства. Понимаю это не так, что нужно лучше сажать
картошку, сеять пшеницу и разводить пчел – имеется в виду весь агропромышленный
комплекс. Если поднимать сельское хозяйство, то, естественно, нужны трактора,
комбайны и заводы, их производящие, необходимы дороги, авиация, химия, короче
говоря, такой шлейф к сельскому хозяйству, который вовлекает в себя многое.
Поэтому я считал и сейчас твердо
уверен, что Россия начнет возрождаться, если сельское хозяйство поставить в то
положение, в котором вчера находился военно-промышленный комплекс. Когда будем
давать туда столько, сколько получал он, тогда и начнется подъем. Говоря
«давать столько», я имею в виду не только капитал, не только железки. Лучшие
умы, которые имелись на Руси, были сосредоточены именно там, в ВПК. Там был
Курчатов, там был Сахаров, там были имена, которых мы и не знали (нам было не
положено). Уже много позже стали узнавать, какие же это были крупные ученые.
Потому и возрождение села, развитие всего агрокомплекса видится мне прежде всего
как абсорбция лучших умов. Если посмотреть на все германии, на все японии – там
тоже всё начиналось с сельского хозяйства. И стратегическая независимость,
безопасность начинается с того, что в стране есть элементарное количество
картошки, хлеба, молока, мяса. Вся экономика может выстроиться под сельское
хозяйство…
– Ну, уж вам ли не знать, кем только и сколько у нас не
говорилось об этом. Селу надо помочь, его надо «вытащить», «возродить».
Возьмите Хрущева, с чего он начал: сентябрьский пленум 1953 года – о подъеме
сельского хозяйства.
– Я ведь говорю не о лозунгах,
которых, конечно, было достаточно. А почему все превращалось в лозунги? Потому
что два арбуза в одной руке удержать невозможно. Или ты развиваешь
военно-промышленный комплекс, поскольку решил «закопать капитализм», да еще
миллионы отдаешь на строительство мирового социализма, на подъем экономики
Анголы, Кубы, Вьетнама и так далее, или развиваешь свое сельское хозяйство. У
нас на него всегда не хватало средств. Всегда сельское хозяйство в иерархии
расходов было в конце. Это первое. А второе – даже тогда, когда деньги давали
(а их все-таки давали, и значительно больше, чем сейчас), они бестолково
использовались. Для наглядности, я помню, мы обратились тогда в газете к
знаменитой «бочке Либиха», даже изобразили ее. Немецкий ученый лет двести тому
назад сказал, что если в бочке не хватает одной дощечки, или как там ее
называют, то вся вода, сколько бы ты ни лил, вытечет. На каком уровне сломано
это одно звено, до этого уровня в бочке и сохранится вода, если даже другие
звенья окажутся выше. Либих говорил это применительно к агрохимии, но ведь в
экономике то же самое. Все затраты должны быть увязаны друг с другом и
«упакованы» в одну коробочку, которая называется «предприятие сельского
хозяйства». А этого не было тогда, тем более нет сейчас. Всегда у нас та
«бочка» была с огромной дырой.
– Насколько известно, в свое время вы были председателем
колхоза, так что все это познавали на практике. А как случилось, что вы,
выпускник престижного МГИМО, стали председателем?
– Молод был (мне было 24 года),
жизни не знал и был донельзя политизирован. Мне казалось, что если только
поехать в село и быть честным и добросовестным, то все можно там наладить. Но
за три года, пока работал в колхозе, я прозрел, увидел, что там работают люди,
которые всего-навсего в 10, 20, 30 раз умнее меня, грамотнее меня, если брать
не число прочитанных книг, не то, насколько они знают Шекспира и Гёте, а вполне
практичные вещи. Когда я все это осознал, когда понял, что этих умных людей просто
никто не слышит, потому что не хочет слушать, тогда начал понимать и многое
другое.
– На этой основе и формировались ваши взгляды?
– Конечно, первое – те догматические
вещи, которые дал мне Институт международных отношений. Я был очень
политизирован, как уже сказал. И когда попал в реальную жизнь, в колхоз…
– Но почему вдруг колхоз в Казахстане?
– Потому что я в свое время читал
«Как закалялась сталь» и все такое прочее. А тут 55-й год, освоение целины. Все
мы были воспитаны в том духе. Сейчас всё кажется идиотизмом. Но мне, конечно,
повезло, потому что проходить такую школу надо именно в этом возрасте – 24–25
лет. Впереди разгон, еще есть время, когда уму-разуму можно учиться. И моими
воспитателями были те люди, которыми там был окружен. Единственное мое спасение,
что у меня чутье было: я окружил себя очень мощными людьми. Бывший председатель
колхоза немец Вильвер. Я преклоняюсь перед ним, потому что вместо того, чтобы
как-то ревновать – все же я сел на его место – он стал моей правой рукой. Потом
Беллер, тоже немец, он стал моей левой рукой. Эти люди по-настоящему болели за
производство и понимали его. А мне хватило ума просто их слушаться. Потому я и
смог справиться, удержался, и в общем-то успешно.
– Это был немецкий колхоз?
– Я там изучил не только экономику,
но и то, как советская власть решила национальный вопрос. Он был, как известно,
решен «окончательно и бесповоротно». В колхозе, где я работал, одно село было
немецкое, одно украинское, одно наполовину немецкое, наполовину чеченское.
Как-то меня пригласили в Алма-Ату, наградили орденом. Только его вручили,
вызывают прямо со сцены за кулисы. Думаю, чего это там, не дали даже на свое
место сесть. А мне говорят: «Вы знаете, у вас дома несчастье». Господи, думаю,
неужели жена, ребенок. Нет, резня. Зарезали моего заместителя Матвея Дуккарта.
Чеченцы. Одного чеченца застрелили. Но сами чеченцы, как чеченцы, были не
виноваты в случившемся – обычная пьяная молодежная драка. Когда я приехал на
место, именно чеченцы помогли мне успокоить село. Именно в те годы я получал
закалку и выработал взгляд, компромиссный, на национальный вопрос.
Благодарен жизни, что прошел эту
школу. Если бы шел традиционным путем – а у меня тогда уже был диппаспорт, я
был назначен пресс-атташе в Копенгаген – жил бы как у Христа за пазухой. И,
конечно, плохо бы кончил… Так что я считаю, академию я прошел в колхозе. Там же
написал диссертацию. Потом окончил аспирантуру, вернулся в МИД, и мне
предложили два варианта. Первый – ехать в ООН, в Женеву. Недурно, прямо скажу.
Перед этим я побывал там, и Женевское озеро мне понравилось, и климат, а от
магазинов я вообще обалдел, долго потом лечился, но все-таки вылечился. И еще
предложили Югославию.
Я предпочел Югославию, хотя,
конечно, это менее, как говорят, «ситуированно». Но мне хотелось посмотреть эту
страну, потому что уже знал кое-что о ней. И это была вторая моя академия.
Югославы находились в оппозиции к нам и были более раскованны. Именно там, а не
здесь, я познакомился с нашими экономистами 20-х годов. Там я прочитал, кто
такой Юровский, его книги, узнал, кто такой Кондратьев. И мои поездки по
сельскохозяйственным предприятиям... У меня были исключительные возможности, я
всю страну объездил. Быстро освоил язык, поэтому югославская теория и мечта о
самоуправлении стали мне тоже интересны и близки.
– У них ведь тоже тогда шла речь о совершенствовании
социализма?
– Да, но у них уже слово «рынок» не
было ругательством, сочетание «рыночный социализм», которое у нас было
запрещено до – даже не знаю, до какого времени, фактически до перестройки – у
них стало ключевым. Я наблюдал, как они ломали себя, потому что их руководство
было коммунистическим похлеще нашего. Как только они поссорились со Сталиным,
провели такую коллективизацию (чтобы доказать, что они-то и есть настоящие
коммунисты), которая не снилась даже Сталину. Но поскольку страна поменьше и
победнее, и Сибири нет, куда ссылать кулачество как класс…
– А если говорить о теории, вы там имели возможность почитать
то, чего у нас не было. Кто вас привлекал тогда – классики (Кейнс, Самюэльсон),
либо соцстрановские экономисты? Кто, как вы сами считаете, повлиял на вас в
большей мере?
– Советские экономисты 20-х годов,
именно они. Дальше – югославские экономисты, начиная с Бориса Кидрича, одного
из крупнейших теоретиков, который тоже шел не от схем, а от жизни. Он впервые,
в 51-ом (если не ошибаюсь) году опубликовал тезисы о товарном производстве при
социализме, которые потрясли меня и перессорили наших ученых с их учеными. Вот
от Кидрича и, конечно, Карделя начинается дискуссия. Она меня очень увлекла.
Дальше – Самарджиа, с ним я часто встречался, это были неформальные беседы,
открывавшие новый взгляд на многие вещи. Ну, и плюс, как уже говорил, поездки
по совхозам, которые подтверждали мои догадки о том, что если всю технологию
производства продуктов «упаковать» в предприятие, то будет очень большой
эффект. Появились мои статьи (под псевдонимом), целые полосы вышли в «Сельской
жизни» о комбинате «Београд» под Белградом, где как раз была осуществлена эта
идея. Когда я спрашивал, почему у вас в пять раз выше все показатели, чем у
частников, а у нас – наоборот, они говорили: естественно, частник же не может
вести на своем огородике, на своей парцеле, даже на своих 10 гектарах, скажем,
селекционную работу; она должна быть вынесена за скобки, этим благородным, но
нерентабельным, некоммерческим делом должен заниматься кто-то другой. Тогда я
понял, что не форма собственности – главное в решении проблем этой самой
трудной отрасли производства.
– И вот с этим всем вы пришли в газету. Как это, кстати,
произошло?
– Приехала в Белград наша высокая
делегация, я был включен в команду, которая ее обслуживала. Тогда и
познакомился с четой Аджубеев. Когда уже кончался визит, с ними установились
какие-то отношения на почве обсуждения тех же сельских проблем (Рада этим тоже
интересовалась). Потом мне поступил сигнал от моего друга, корреспондента
«Известий» В. Кривошеева: тебя ждет Аджубей. Я испереживался, исхудал – и
хочется, и колется… А в посольстве, чувствую, дипломатическая карьера,
чиновничья – не моё. Очень остро почувствовал. Из-за моих симпатий к Югославии
мне сразу стали «клеить» всякие ярлычки, а я по-прежнему оставался дурачком:
то, что думал, на закрытых совещаниях и говорил. Когда приехал в отпуск,
Аджубей предложил стать редактором отдела сельского хозяйства, обещал и
квартиру (а у меня двое детей, жилья нет). И я дал согласие.
– А такой аргумент, что это дело полезное, что есть
возможность и высказать свои взгляды и найти новых сторонников – не выдвигался?
– Да, конечно. Та же юношеская
мечта. Если уж я в колхоз поехал, отказавшись от диппаспорта, то хотелось и
продолжить. «Мужик, что бык: втемяшится в башку какая блажь, колом её оттудова
не выпрешь – упирается»… Вот уж действительно. Не то, чтобы я сразу рубашку
рванул на себе, все бросил, лишь бы пойти в народ – нет. Просто сошлось
несколько факторов.
– А наука тогда вас не привлекала? Не она была на горизонте?
– Нет. И на горизонте не было. Я
кандидатскую защитил, ну и все. Мне очень понравилось в «Известиях», очень
понравилась журналистская работа. Ездил по всей стране, собирал материал, с
запалом писал, «проталкивал» на полосу. И меня это полностью удовлетворяло.
– Проводя свои идеи, на кого вы опирались (и в редакции и вне
ее)? Какой был резонанс от выступлений в газете? Аграновский, скажем, очень
большое значение придавал откликам на свои очерки.
– Что касается сторонников в
редакции, то произошла совершенно невероятная вещь. Ведь любой коллектив со
сложившейся структурой трудно принимает «новенького», часто отталкивает его. А
тут еще такая заметная должность, весьма заметная, как редактор отдела
правительственной газеты. Тем более аджубеевской. Но меня хорошо приняли.
Опирался я в первую очередь, конечно, вот на таких людей, как Анатолий
Аграновский. Как ни странно, мне важно было и много давало общение с людьми,
которые очень далеки от экономики сельского хозяйства: Лордкипанидзе,
Исмаилова, писавшие о театре, Друзенко, Лацис – «промышленники». И постоянные
контакты, и мимолетные даже разговоры подзаряжали. Можно было себя проверить.
И самый тесный «союз» был у нас с
Александром Волковым, тогда собственным корреспондентом «Известий». Первое
знакомство состоялось заочное: я прочитал его «Поднять или приподнять?» – это
была статья! – и понял, что мы единомышленники. А потом пошли наши многочасовые
разговоры и о сельском хозяйстве, и о теории, и обо всем на свете. Я-то по
природе своей не редактор, любил писать и к чужому письму относился как к
чужому. А он – редактор, и над чужими материалами работал как над своими. У нас
получилось удачное сочетание: при общем «тяготении» к селу мы сверяли свою
практику, свои выводы из нее (он тоже приехал не «с асфальта»).
А сторонники и опора за рамками
редакции – это председатели колхозов, другие люди, производственники, с
которыми я встречался. По их реакции я чувствовал, что иду в правильном
направлении. И разговор – на одном языке. Именно с производственниками, а не с
чиновниками. Это естественно. У меня ведь было два искушения в жизни. Первое,
как я говорил – когда выложил диппаспорт и поехал в Казахстан. А в Казахстане
мне предложили стать кандидатом в члены ЦК компартии Казахстана. Сами
понимаете: если бы я в 27 лет стал кандидатом в члены ЦК – открывалась карьера.
Но опять-таки Бог меня как-то одернул. Я почувствовал: или нужно «официантом»
становиться при властях, «чего изволите», или шагать по головам, не
оглядываясь. Тогда я в аспирантуру и уехал. Ну, и тоже надо было найти в себе
силы, когда к Аджубею ушел, бросив дипломатическую работу второй раз… Иногда
нужно себя ломать, хотя это очень трудно.
– Что вам памятно из того, что удалось сделать в «Известиях»?
– Первую головомойку я получил за
статью, которую мы опубликовали вместе с Доленко, корреспондентом «Известий» по
Украине. Мы рассказывали о знаменитом крымском колхозе, о его председателе
Герое Социалистического Труда Егудине, и из нашего рассказа следовало, какое
сильное это хозяйство, как разумно оно организовано и какой разумный герой
Егудин. И я там написал: «Считается, что этот колхоз будто якобы низшая форма
собственности». Это «будто якобы» – мое природное ехидство проскочило каким-то
образом, заместитель главного не заметил, что я подверг сомнению «высшую»
форму, государственную, и в итоге мне было сделано очень резкое замечание как
редактору. После этого я «озверел» и опубликовал статью «Жизнь вносит поправки»
в 65-м году, в № 49 «Известий» (я сейчас, перед беседой, перебирал свои
вырезки, уточнил). Там уже был поставлен вопрос о товарном производстве при
социализме, о регулирующей роли закона стоимости. Толкунов, главный в то время,
еще до публикации сказал: «Первое. Получи поддержку, поезжай к академику
Румянцеву». Ну, он не просто академик, а – все знают – вчерашний «агитпроп». Я
приехал, он посмотрел статью; понимая, чем это грозит, очень топтался,
топтался, но в конце концов поставил визу. Толкунов предупредил: «Я печатаю
статью, только ты готовься к тому, что тебе будет очень плохо. Если хочешь,
сними сразу». Но Румянцев же поддержал, снимать не буду. «Тогда пеняй на себя.
Если смогу, помогу как-то из этого вылезти»…
Я, конечно, не думал, что будет такой
резонанс, просто взрыв, обвал. Масса писем посыпалась.
– От кого? Председателей, ученых?
– В первую очередь, естественно, от
председателей, бригадиров, всех, кто «на земле». Это меня, конечно, окрылило. А
ученые как ученые – на дух не приняли, отвергли. И в том же году в № 64
появилась статья «Что регулирует производство? В чем не прав Геннадий
Лисичкин». Подписали ее Атлас, Злобин, Винокур, Кадышев… Имена по тем временам
сильные. Они меня просто растоптали. В «Известиях», в моей газете. Дискуссия
есть дискуссия. Но ведь тут надо еще отдавать себе отчет: Аджубей ушел, Хрущев
ушел, наступил период, когда многое было неустойчивым. Период поиска путей. В
этой сумятице можно было что-то и «вякнуть». Поэтому мне дали «вякнуть», то
есть я им ответил, потом они выступили еще раз. Я поехал к Л.А. Леонтьеву, и он
опубликовал статью в № 67 «В чем суть спора? Ответ критикам статьи «Жизнь
вносит поправки», где в значительной степени, процентов на 90 с лишним, встал
на мою сторону. Тот Леонтьев, который прошел школу 20-х годов, был бит-перебит,
и Хмельницкая, его жена, тоже – все нахлебались по тем временам.
– Он тогда где работал?
– В Институте экономики АН СССР, она
– у Арзуманяна, в Институте мировой экономики и международных отношений. Потом
выступил Кронрод, который пытался пройти где-то посредине, но по сути – больше
против. По крайней мере хоть вежливо. Дискуссия в целом получилась громкая,
заметная. Но меня уже несло, я сразу сел писать книжку «План и рынок». Один из
аспирантов, с которым я кончал институт, В. Морозов, позвонил мне во время этой
дискуссии и предложил опубликоваться в издательстве «Экономика». Книжке дали
«зеленую улицу», она вышла небывало быстро по тем временам. И вот уж тут
началось…
– Геннадий Степанович, а вы считаете нормальным, что,
собственно, научная дискуссия шла на страницах газеты «Известия»?
– Я считаю, что это очень хорошо.
– А почему именно так? Шла ли подобная дискуссия внутри
академических институтов или в университете? Почему она не велась в
специализированных журналах?
– Это невозможно было. С такой
статьей я не мог прийти, скажем, в «Вопросы экономики» или в любой печатный
орган, который находился под наблюдением ученых. Ведь ученые – самые нетерпимые
люди, потому что каждый (и это так и положено) считает себя носителем истины в
конечной инстанции. Все статьи обычно рассылаются членам редколлегии.
Предположим, пришла бы моя статья Гатовскому, директору Института экономики,
или тому же Кронроду – они бы ни за что её не пропустили, ибо это не
соответствует их убеждениям. И к тому же – официальной доктрине. Поэтому
инициатором такой «драки» мог быть только человек со стороны, и не специальный
журнал, а газета, редактор которой на что-то решился. Умные люди говорят: «Это
слишком серьезный вопрос для того, чтобы поручать его решать специалистам».
По-моему, прекрасно сказано. Вот я и был тем дилетантом – чуть-чуть того
поглядел, этого почитал – плюс газета, которая имеет мощный резонанс. Я безумно
благодарен такому стечению обстоятельств – в «Известиях» я мог начать разговор,
который послужил основой книжки «План и рынок». А дальше… Сейчас мне даже
немного обидно, что «План и рынок» знают и помнят, а сам я считаю, что гораздо
лучше была следующая моя книга – «Что человеку надо?» Она уже не получила
такого отзвука. Наступило другое время. Её, кстати, уже почти под нож пустили в
издательстве, по указанию свыше. Слава Богу, в ЦК нашелся человек, который
сказал: «Ну, сделайте небольшим тиражом, по-тихому пропустите её».
– Вам кажется, что именно момент играл решающую роль?
– Конечно. «Дорога ложка к обеду».
– Вы писали о законе стоимости, спорили о его регулирующей
роли. Вы уверены, что те же бригадиры и председатели, которые присылали свои
письма, понимали все это?
– Я как раз писал бытовым языком, на
примерах, на пальцах объяснял, что почему. Закон стоимости – это паритет цен,
это сколько стоит комбайн и сколько – литр молока. Это – сколько надо отдать
гектаров пшеницы за одно колесо какого-нибудь «Кировца». Они это все прекрасно
схватывали, сразу на это реагировали. Но, честно говоря, когда я писал статью,
вряд ли думал, на какого читателя рассчитываю. Больше всего думал о том, как
выйти на полосу. А по существу для меня это значило – «пройти Кирклисову». Она
была редактором в секретариате «Известий», очень уважаемым и компетентным. И
важна была прежде всего ее оценка: это читается или нет? Пусть ты пишешь
правильные и нужные вещи, но если это такая «тягомотина», что не продерешься и
через первый абзац… Пройти строгую в этом смысле Кирклисову – было большое
дело.
Потом, после «Плана и рынка», у меня
в «Новом мире» пошла серия статей.
– Почему именно в «Новом мире»?
– Потому что территориально
«Известия» и «Новый мир» были соседями. Ну, и потому, конечно, что там уже был
Хитров (мы с ним работали в «Известиях»), я был уже знаком с Лакшиным – в общем,
тем людям, которые там работали, я симпатизировал. Я не был регулярным
читателем «Нового мира». «Иван Денисович» до меня еще не дошел. Твардовский для
меня тоже еще не был общественным авторитетом. Для меня был авторитетом Ефим
Дорош, который печатал в журнале свой «Деревенский дневник», и когда проходил
там мой текст с таблицами (что для них было непривычно), то самым большим моим
защитником как раз оказался Дорош.
А обстановка между тем менялась
быстро. Ведь когда вышла моя книжка о плане и рынке, ее запросили в ЦК,
обратили на нее внимание и в общем отнеслись положительно. Там, повторю, еще
шел поиск, пока ничего не устоялось. Ну, а позднее уже начался откат. И я в
«Известиях» как-то «завис». Уже за мной числилось немало «провинностей»,
начиная с крымской статьи. И кому-то было не совсем понятно, почему меня взял
Аджубей, ставленник я его или не ставленник. Вот и в «Новом мире» стал
печататься, что не поощрялось. Много накопилось отрицательных моментов. Тогда
меня стали «соборовать» корреспондентом «Известий» в мою любимую Югославию. Мне
больше подходило остаться здесь, хотя, конечно, Югославия тоже привлекала. Но
меня пригласили в «Правду» (там сменилось руководство), а когда я согласился,
позволили очень активно работать.
Так получилось, что к нам приехал
чешский экономист О. Шик, я с ним общался, это было на виду; Шик пригласил меня
на очень представительный форум рыночников всех соцстран. Проходил он в Праге,
там была рыночная элита, только-только нарождавшаяся – венгерская, польская. И
там, в Праге, перевели сразу на чешский и словацкий языки «План и рынок». В
«Руде право», в других газетах – комментарии. Моя книжка стала для них как бы
зацепкой: не такие уж мы, мол, отщепенцы, вот смотрите – и в Советском Союзе
есть люди, мыслящие так же. А потом оккупация. Я в это время от «Правды» был в
командировке на Алтае. Когда услышал, что вошли войска, сразу понял, что
последует. Меня вызвал Зимянин: «Я тебя не гоню, все, что ты публиковал в
«Правде», абсолютно правильно. Никаких здесь претензий не может быть. Но
печатать не буду». Я сказал, что все понял. И стал искать, куда податься…
– Как известно, вы работали потом в научных институтах, стали
доктором экономических наук и продолжали выступать в массовой прессе. Это
оставалось потребностью? Необходимостью? Интересно узнать ваше мнение о связях
науки и журналистики, насколько они были и могут быть плодотворными?
– Разная была наука. И та, что
обращалась к людям с предложениями, как улучшить и экономику, и жизнь вообще.
Она сотрудничала с газетами. И та, что была замкнута в себе, здесь были
отработаны свой язык, высокомерное отношение к журналистам. А писали нечто
совершенно оторванное от жизни. Для меня такой яркий пример – книга «Труд»
Чангли. Маркс написал «Капитал», а она – «Труд»… По сю пору я ощущаю себя чужаком
в этой среде – другой язык, другие совершенно задачи. «Чистая» наука. На кого
ты работаешь при этом? Для чего? Защита диссертации – ритуал. Я сижу на ученом
совете и заранее знаю, как это будет – кто выступит, как выступит, все
ранжировано, все отзывы получены, слова, какие должны быть, написаны. Если ты
напишешь не теми словами, тогда не здесь, так в ВАКе тебя «зарежут».
– И вы не допускаете, Геннадий Степанович, что может быть
крупный ученый, скажем, в области теории социологии?
– Ну, естественно – и может, и есть.
Вопрос в том, что такое «ученый» и «не ученый». Тут у меня на полке Николай
Бердяев, «Вехи» – это же написано по-человечески. Вот это для меня – наука, вот
это – апелляция к людям, по тем проблемам, которые реально существуют. Когда я
читаю Маркса и Энгельса, я забываю, наука это или не наука. Это – публицистика.
– «Капитал» Маркса – публицистика?
– Нет, все остальное. Кстати, он его
писал, писал, а потом в конце концов забросил и перед смертью все-таки от
«Капитала» отказался. Вот пожалуйста, я вам зачитаю (берет книгу – прим. ред.):
«История показала, что и мы, и все мыслящие подобно нам были не правы. Она ясно
показала, что состояние экономического развития европейского континента в то
время далеко еще не было настолько зрелым, чтобы устранить капиталистический
способ производства». Основа, на которой происходило его развитие, «обладала
еще очень большой способностью к расширению». Вот что, перечеркнув «Капитал» и
тем более «Коммунистический Манифест», Энгельс, будучи предпринимателем, бизнесменом,
сказал, оглядевшись: «Ничего подобного, никакая не последняя стадия». Но эти
слова, хотя они существуют, нигде же не приводились. «Маркс сказал, Энгельс
сказал»… А то, что они сказали, кроме Чапаева и Суслова никто не читал. Никто
же не читал Маркса! Тогда, не читая, на него ссылались, теперь бездумно и
легкомысленно от него отказались.
И второе. Общественные науки (и
философия в том числе, и социология, и экономика) были уничтожены, расстреляны.
Только сейчас начинается зарождение общественных наук, потому что наука не
может быть только советской, нужно соприкоснуться с «той» наукой, а мы от нее
были отрезаны начисто.
– В 60-е годы некоторые были знакомы с западной социологией.
– Если ты и знаком с западной
социологией, то для тебя есть одно направление – критика буржуазных теорий. Да
и тут внимательно смотрели, как ты их подаешь. Следили и сразу (по себе знаю):
«А, это ты протаскиваешь рыночный социализм!» Так же, как в предвоенное время:
если ты, критикуя фашизм, будешь цитировать ту же «Майн кампф», – это
преступление. Это ты таким образом пытаешься познакомить читателя с
подлинниками и заронить в душу сомнение.
– Почему все-таки вас лично, Геннадий Степанович, постоянно
«рубили», в чем-то вам отказывали и т.д.?
– И считаю, что они правы абсолютно.
– Они?
– Те, кто и сейчас у власти. Ведь
начиная с 17-го года все больше и больше власть брали и окончательно взяли
бывшие полухозяева, теперь они стали хозяевами. Я написал об этом в книге «Есть
ли будущее у России» (М., 1996). Специальная глава: «Когда полухозяин
становится хозяином». Дело в том, что Россия – страна чиновничья. В свое время
раньше всех нас суть их власти осознал Джилас, когда написал «Новый класс».
Чиновник (тот же секретарь обкома), с одной стороны, имел огромную власть,
материальное благополучие, но, с другой стороны, это не передашь по наследству,
а в любую минуту, если окажешься не угоден высшему начальству, тебя могут
лишить всего. Переход к рыночному хозяйству – это вызов, это открытая борьба
против чиновничества. Если все можно купить, все можно продать и не спрашивать,
как, если еще и открыться мировому рынку – куда чиновнику деться? Чиновнику
нужно сохранить право подпустить меня к трубе или не подпустить, дать лицензию
или не дать, установить такие налоги или другие. Поэтому у нас идет настоящая
гражданская война между рыночниками, которые хотят вот этой свободы и
независимости от чиновников, и чиновниками. Они тогда, в 60-х годах, прекрасно
сознавали, чем им грозит рынок. И сейчас сознают. Если отдать землю (не будем
говорить, каким образом) крестьянам, что чиновнику останется? Ведь сейчас даже
для того, чтобы получить участок для дачи, огромные деньги, половину своих
расходов нужно отдать чиновнику. Поэтому борьба идет не на жизнь, а на смерть.
И смотрите, как они все поднялись, как грибы после дождя. Почему? Потому что
чиновник сейчас имеет бóльшую силу, чем при Сталине, чем при Брежневе и
Горбачеве. Поэтому и рыночной экономики, понимаемой всерьез, у нас так и нет, у
нас она олигархическая.
Вот я и считаю, что они правомерно тогда
боролись и сейчас борются за свое выживание, со всеми опасностями, которые
встречаются на их пути. И становятся из полухозяев полными хозяевами, когда
свою чиновничью власть соединяют с собственностью.
– Значит, вы оказались побежденным?
– Ну, я «один из». Причем еще
наиболее удачливый, как-то все время выкручивался. А что случилось с Леном
Карпинским? С Леней Кассировым? С Венжером? Что с многими другими, которые
«высовывались», а «высовываться» было нельзя? Когда в 40-х годах опубликовали
данные нашего отставания от сельского хозяйства США, «погорела» целая группа
ученых. И все затаились, стали бормотать то, что от них ждали. Или уходили в
другую отрасль. Поэтому я и считаю, что весьма успешно продержался в «своем
окопе», а масса людей вообще не имели возможности высказаться, не защитили
диссертации, потому что выходили с гораздо более смелыми, может быть,
решениями. Скажем, докторскую диссертацию, которую я защитил – третью по счету –
мне противно взять в руки. Уже потому, что когда мне сказали: «Ну, ладно,
пропустим» – я тяп-ляп что-то сделал, на их языке, под их требования. По
сравнению с теми двумя диссертациями, которые написал раньше, еще с верой во
что-то, она намного слабее. Но почему все же защищал? Потому что когда идет
молодой человек с лейтенантскими погонами, это хорошо, но когда идет обрюзгший
пятидесятилетний дяденька и у него лейтенантские погоны, всегда хочется подать
копеечку. Если уж оставаться в науке, то надо какой-то элементарный статус
обрести, хочешь – не хочешь. Это была своего рода плата за то, что мне удалось
сделать в прессе в 60-е годы. Что чего стоит – сейчас сказать трудно. Но думаю,
что в целом многие ученые и многие журналисты что-то заронили тогда в сознание
людей.
– Можно ли сказать, что уже тогда, в 60-е, шла или началась
борьба за самостоятельную роль прессы в обществе, за право журналистов писать
то, что они думают, как понимают события?
– Может быть, каждый отстаивал такое
свое право. Была и солидарность журналистов. Но была и полная ясность, что
никакая независимость невозможна. Маневрировали в рамках допустимого. И ЦК КПСС
заботился, чтобы каждый нес ответственность не только за себя, но и за коллегу,
за подчиненного, вот за ту самую солидарность. Карпинский допустил такие-то
ошибки, а Торсуев не прореагировал вовремя и задержался на пять минут с
вынесением ему выговора. Что сделали с Карпинским, знаете – исключили из
партии, оставили без работы. А что сделали с Торсуевым? Из директоров
издательства вылетел мигом и стал чуть ли не экскурсоводом на ВДНХ. За что? За
отсутствие бдительности. Везде действовал этот принцип: если ты не заклевал,
если ты просмотрел, погибай вместе с тем, кто «провинился». Поэтому мы
прекрасно знаем всех тех редакторов, которые, если «надо», сразу найдут
крамолу. Я прекрасно помню одного такого. Передовицу даже напишешь –
моментально выискивает строчку… Там 200–300 строк, а он обязательно найдет ту,
которую я специально вписал: ну-ка, интересно, пройдет – не пройдет. Нет, не
прошла.
– В журналистике всегда были разные люди: один «пробивает» свои
идеи, переживает за каждый абзац, который вычеркнули, а другой заметку напишет,
гонорар получит, и это его вполне устраивает. Вам, наверное, тоже приходилось
это наблюдать?
– Ну, тут уже действуют свои
ценности. Может, совесть, а может быть, гражданская совесть. Чего не хватало,
скажем, Чаадаеву? Жил бы себе и жил. А чего Герцен там маялся? Как-то я читал
Поршнева, он выдвинул теорию, согласно которой все люди только кажутся
одинаковыми, потому что у нас две руки, две ноги, два глаза, а на самом деле мы
произошли от разных животных. Одни – от хищников, вот волки бегают, тигры,
готовы любого разорвать. Среди них ходят шакалы. Это другая порода. Есть еще
овцы. Куда их погонят, туда они и пойдут. И есть элита, интеллектуалы типа
Сахарова, Коперника, Джордано Бруно, Микеланджело, Рублева… Их единицы. Мне это
показалось справедливым. Потому что, например, я не могу убить человека, а
другому, кажется, – раз плюнуть. Я не могу сделать массу вещей, которые сейчас
делают очень близкие наши знакомые. А я прихожу больной совершенно от этого,
жалуюсь жене, как будто она что-нибудь в силах изменить: «Как это можно, как
это можно?!» А можно, можно. А потом встречаешься с человеком, он смотрит в
глаза. Мне неудобно за то, что он сделал. А он – ничего, общается со мной: «Ну,
как живешь?». Так что, я думаю, это – ДНК виновата.
– Но вот социологи задаются вопросом: «Кто и как конструирует
наше сознание?» Пресса, на ваш взгляд, входит в этот ряд? Какое вы ей отводите
место?
– Я думаю, в основном сознание
все-таки формирует жизнь. Вся, в целом. Мы в какой-то степени помогаем людям,
если нам удается сообщить: «Ребята, там рифы есть, осторожнее». Это максимум,
что мы можем сделать. Но люди все равно плывут, тонут, бьются об эти рифы, а
потом вспоминают: «Вот был голос, между прочим, правильный. Нас предупреждали,
что есть рифы». Наша задача, я думаю, заключается в том, чтобы уметь выбирать
трезвые голоса из шума толпы, которая мчится куда-то – между прочим, никто не
знает, куда она мчится. Но созидательные натуры должны получить при помощи
прессы возможность услышать то, что кажется трезвыми голосами. И в общем – это
получается в конце концов. Когда вот «Вехи» написали об интеллигенции – «Из
глубин»? До меня лишь сейчас это дошло (только появились книжки, раньше они
были в спецфондах). Теперь я читаю и чувствую: значит, я не столь уж
заблудился, если люди так же думали столько лет назад. А я просто их продолжаю
и не чувствую себя одиноким. И начинаю думать, что, наверное, я на правильном
пути.
– Сейчас много говорят о шестидесятниках, они мол, были
романтики, жили иллюзиями… Интересно в этой связи ваше мнение: хотя бы в
какой-то мере сказалась реально во времена перестройки та ваша борьба за
экономические реформы, за рынок?
– Сказалась, несомненно, сказалась.
Конечно, в русском характере – нигилизм, «иваны, не помнящие родства». Мы не
знаем своих предшественников, предпочитаем все открывать заново. У меня же
иногда опускаются руки: «Но ведь это все давно написано, только гораздо лучше и
более аргументировано». Теперь я могу только проиллюстрировать эти мысли еще и
нашими примерами, не только времен революции 1905 года, столыпинской реформы и
т.д. Сейчас поджигают хозяйство фермера, тогда – хуторянина, который вышел из
общины. К сожалению, происходит то же самое, развитие идет по кругу, а не по
спирали. Поэтому мне представляется весьма важным хотя бы уже просвещение наших
граждан относительно того, что надо делать в экономике. Чем и занималась пресса
в 60-е годы – именно газеты, журналы. Если что-то удавалось и тогда, то теперь
возможности совсем другие. Вот у меня лежат «Вопросы философии» (слава Богу,
теперь возрождаются и философия и журнал). Много западных авторов, которых
раньше было просто невозможно прочесть. И выросли люди, которые не «затюканы».
Я вспоминаю того же Льва Абрамовича Леонтьева: он боялся, потому что стольких
его коллег и друзей посадили, всех он помнил, как помнил и то, что с ним не
здоровались, его сторонились… И авторы, и читатели уже иные.
– А вы следите за современной прессой? Какое у вас
впечатление?
– Некоторым авторам я просто завидую
– их раскованности, глубине анализа. Уровень выше того, что был в нашу пору.
Таких авторов, правда, немного, и им не дают разогнаться, потому что во все
времена есть спрос на какие-то вещи, которые мне, например, кажутся неинтересными.
Многие материалы (я это вижу) написаны по заказу, в коммерческих интересах. Не
с общественной точки зрения, и не с государственной даже – государство и
общество я все же разделяю, – проталкивают групповые интересы, какие-нибудь
«алюминиевые». Коммерциализация очень большая. Как добиться, чтобы пресса стала
общественной, а не «газета Березовского», «газета Ходорковского», «канал
Лужкова»? «Нет, мы эту статью в «Новых известиях» печатать не будем, потому что
здесь есть выпад против предприятий, входящих в группу Березовского». И как
преодолеть «моду» среди власть имущих, среди чиновников на равнодушие? Раньше
напечатали и, как правило, рассчитывали на резонанс, отклик, «действенные
меры». Сейчас кажется – никто никакого внимания не обращает ни на что. Гордятся
даже: про меня пишут, а я не обращаю внимания.
И еще одно: главный редактор крупной
газеты все-таки должен быть общественным деятелем. Общественным деятелем,
который прошел какую-то школу. И – личностью, а не просто вчерашним
бухгалтером. Вот Твардовский много нес людям, много внес в общественное
сознание. Вот про «Новый мир» можно сказать, что он конструировал сознание,
потому что он создавал критерии современной нравственности, принципы отношения
к жизни.
У нас как-то не разделились
коммерция и журналистика, они сплошь и рядом – в одном лице. На Западе,
например, это четко разделено.
– Сейчас в любой, наверное, редакции можно услышать, что
никому не нужны «кирпичи», то есть крупные аналитические материалы, которые вы
всегда и писали. Их время прошло? Газета – царство информации?
– Не думаю. Во всяком случае, такие
мысли не возникают, когда смотришь западную газету, например «Neue Zuricher
Zeitung» или «Die Welt». По объему это 40–50 страниц, по уровню материалов –
монография. Я знаю, что здесь найду статьи про экономику, про археологию, про
искусство. И всё – квалифицированно. И всё – для своего, заинтересованного
читателя. Вы дайте мне эти «кирпичи», и я составлю представление, надо ли мне
ждать, когда выйдет монография данного автора, да и стоит ли ей выходить
(возможно, задуматься над этим будут основания и у самого автора). Газета и
журнал оперативнее, они должны иметь свою «площадку».
Как-то редактор английского
«Экономиста» сказал, что это журнал «мнений и анализа». В этом качестве он
существует много лет. Я бы хотел такой судьбы для наших периодических изданий.
] ] ]
Э.М. Максимова
«ЗДЕСЬ Я МОГЛА
РАБОТАТЬ, НЕ ИЗМЕНЯЯ СЕБЕ»
– Читатели, которые привыкли к «Известиям», привыкли и к
подписи: «Э. Максимова» – вашей подписи. Она прочно связывается с
проблематикой, заставившей в 60-е годы говорить о повороте прессы к человеку, к
темам гуманизма, морали, нравственности. Не могли бы вы рассказать, как вам
дался такой поворот?
– Перед беседой перебирала наши
выступления… Боже мой, как же много определялось внутренним самоограничением,
цензурой! Мы по-другому писали.
– Лучше или хуже?
– В иных случаях и лучше –
тщательнее выбирали, глубже вникали. Говорю про себя. Проще было писать?
Пожалуй, труднее. И «головы», и изворотливости, и точности требовалось больше.
Потому что потом меня вызывал Гребнев, заместитель главного редактора, и
спрашивал: «А где партия? Где цитаты?» – главная присказка на мой счет. С ним я
тоже должна была хитрить. Так что дважды – сначала, когда писала, потом, когда «объяснялась»
– думала, как это воспримут. Помню, что такое комната цензоров, где нередко
приходилось бывать, потому что бралась за темы довольно опасные по тем
временам. Кстати, очень часто убеждалась, что и цензоры все понимали, а порой
просто помогали найти выход: я не могу от чего-то в статье отказаться, и мне
предлагают варианты. Но были среди них и тупицы, мы их знали и просили
секретариат поставить материал не в тот номер, когда дежурит такой-то.
Я пришла в газету еще тогда, когда
главным редактором был Аджубей, и газета имела как бы особый статус. Каждый
раз, еще только собираясь в командировку по конфликтному делу, знала, что будет
потом, какой начнется переполох в райкоме, в обкоме. Было странное ощущение еще
в поезде: «Боже мой, сидят себе там спокойно и не знают, что они уже на крючке
и «Известий». Каждый известинский корреспондент был карающим мечом – уже в силу
того, что работал в газете, где главным редактором – зять Первого секретаря ЦК.
После критического выступления «Известий» непременно следовали санкции, часто
весьма чувствительные. Стыдно сказать, но при первой встрече со своим будущим
антигероем, у меня начинало трепыхаться сердце. Помню, как «снимала с работы»
заведующего гороно Сочи. Негодяй, держиморда, а все равно не могла избавиться от
внутреннего напряжения. Действенность газеты была довольно тяжелым бременем. Но
при том – и школой ответственности, которая многому научила на всю
журналистскую жизнь.
– А почему вы заранее считали, что человек – «негодяй,
держиморда»?
– Как правило, решение о
командировке принималось после основательного знакомства с ситуацией. Откуда
были «сигналы», как тогда говорили? Из писем. Но если в письме – копии
документов, если его подписывают десятки людей с указанием всех сведений о себе
и т.д. – есть серьезное основание верить. Я не помню такого случая, чтобы
приезжала и заставала «ангела».
– А что вы кончали?
– Филологический факультет
университета, западное отделение, специальность – английский язык и литература.
Распределили меня в Главлит, в ту самую цензуру. Начальник их отдела кадров
сидел на распределении, сам отбирал, видел мои анкеты. Он же не мог не заметить
пункт 5: «еврейка»! Но когда через две недели я явилась на работу, мне сказали:
«Ваше место уже занято». Теперь думаю: какой Бог меня спас?
– Помимо ощущения «карающего меча», было у вас ощущение
полезности того, что вы делаете?
– Иначе я не смогла бы работать.
Ведь при всем том газета была защитником, последней инстанцией. В аджубеевских
«Известиях» людям стремились помочь, и это сохранилось на годы и годы. Газета
была гуманной и гуманитарной. И когда каждый из нас «пробивал» свой материал
через того же Гребнева или цензора, бегал по этажам, и очередной начальник
что-то вычеркивал, а ты сопротивлялся, как мог, вряд ли мы задумывались, во имя
чего это делаем. Просто было ясное представление о правде, об истине, о
справедливости. Для того, кто приходил в «Известия» и работал хотя бы два-три
года, это становилось способом мышления. Мы внутренне были готовы к
перестройке. Не в том смысле, что реально представляли, с чего она может
начаться и как осуществляться. Но необходимость перемен жила вне зависимости от
их реальных возможностей. Нельзя так – и все. Устройство жизни было столь
противоестественным, что нормальный человек не мог его принимать. Ну, и
воспитание сказывалось.
Сколько людей думали так же, какая
часть общества понимала, что происходит? Сознание-то было искорежено. Но люди
вокруг меня это понимали, исходя из этого и писали. Ведь Аджубей подбирал
сотрудников «поштучно». И при Толкунове осталась такая практика: подробные
беседа, во множестве кабинетов, через которые проходил человек, изучение папок
с его газетными вырезками. Появлялись, разумеется, и другие – по звонкам, по
указаниям свыше. В ком-то ошибались… Но я имею в виду большинство, общий фон,
атмосферу.
– Позиция журналистов «Известий», видимо, была и их
гражданской позицией? Многие знают, как два известинца, собственные
корреспонденты газеты в Чехословакии, отказались освещать с официальных позиций
события, связанные с вводом войск в Прагу.
– Это был, мало сказать,
мужественный поступок. И Борис Орлов и Владлен Кривошеев – люди мыслящие,
воспринимали и оценивали происходящее так же, как мы. Но у них хватило душевных
сил, бесстрашия выразить неприятие в такой вот действенной, категоричной форме.
Я как-то писала о тех, кому Израиль
дает звание «праведников» за спасение евреев во время войны. Так вот оно дается
только тому, кто спасая, ставил на кон свою жизнь. Важен первый шаг: к тебе
постучали в дверь, ты открыл, без размышлений впустил человека. А если стал
думать, прикидывать «за» и «против», едва ли ты будешь его спасать. Наши
собкоры не взвешивали последствий, которые, кстати, наступили очень быстро.
Ну, а мои представления о системе
сложились очень давно: мне все родители объяснили. У меня половина родни
сгинула в 37-м. Я девочкой видела привезенную из печально знаменитого «Алжира» –
Акмолинского лагеря жен изменников родины – свою двоюродную сестренку, ее
первые слова в нашем доме: «Козел ушел за зону». Два года ей было… С этим я пришла
в газету и поняла, что здесь могу работать, не изменяя себе и своим взглядам.
Удивительная была ситуация в
«Известиях»: ведущие спецкоры, начиная с Анатолия Аграновского и Татьяны Тэсс,
не состояли в партии.
– Аграновский как-то с гордостью говорил: «У нас в семье два
б/п – я и моя собака».
– Он и в обком шел как
«Аграновский». Им в голову не приходило, что он – не член партии, открывали ему
сейфы с документами. В «Правде» это было невозможно – только в «Известиях»,
поскольку мы были газетой Верховного Совета и в ней должен был присутствовать
«блок коммунистов и беспартийных».
Мне даже в этом не пришлось ломать
себя. В партию не вступила, хотя предлагали, с нажимом, обещали «рост». А я
спецкором пришла, спецкором и уйду.
Да, был в «Известиях» общий дух, который
держал коллектив, из-за которого трудно было расставаться с газетой, если
приходилось уходить. Интеллектуальный уровень, ниже которого стыдно опуститься.
Нормы поведения на полосе, которые стыдно преступить.
– Все это, видимо, определяло и содержание газеты? Неслучайно
ведущие публицисты «Известий» занимались нравственной проблематикой?
– В том числе и даже в основном наш
отдел – школ и вузов. Большую часть своей известинской жизни я проработала в
нем. Казалось бы, всеми этими идеологическими, нравственными вопросами должны
заниматься отделы, рассматривающие проблемы общества, культуры и т.д. А часто
занимались мы.
«Известия» брались за очень колючие
темы, но всегда они, если можно так сказать, «сажались» на конкретного
человека. Это была почти единственная возможность вынести на полосу то, что
мучило общество, общественность, просто порядочных людей. Требовалось придать
ситуации частный характер – чтобы был конфликт одного Иванова с одним Петровым
и чтобы происходил он «в нашем учреждении», в «нашем (самое бóльшее)
городе». Учитель тебе толкует об общественной проблеме, а ты упорно
ограничиваешь его кругом его учеников, коллег. К нашему отделу это вообще имело
особое отношение. Уже спустя год после того, как Аджубей его создал и мы
заработали в полную силу, он считал, что благодаря отделу школ и вузов газета
приобрела огромное число интеллигентных подписчиков. В границах школьного и
вузовского микромира можно было сказать кое о чем и бóльшем. Наши
материалы фактически выходили на более широкую тематику – прав человека, как
сказали бы теперь. Из нее потом вырос отдел «Право и мораль».
– Не могли бы вы немного подробнее рассказать, о чем в то
время писали, чем «болели», что запомнилось?
– Моей первой испытательной работой
была авторская статья директора школы из Северной Осетии. Тогда шла очередная
перестройка образования – бурная «политехнизация», которая стала для школы
сущим кошмаром. Появился Закон о школе, по которому детей снимали с занятий на
уборку урожая и в сентябре, и в октябре, и вообще когда нужно, сокращали
программы, в классах отгораживали углы для кроликов, у детей были свои поля,
они должны были добиваться рекордных урожаев. Все приняло, как обычно,
совершенно кафканкианский характер. «Тройки», говорилось в статье,
«перекрываются гектарами», которые напрочь загубят школу. Дня через два –
звонок, редактора отдела вызывают в секретарю ЦК. Понятно, чего мы ожидали, но
к своему удивлению получили поддержку и одобрение (может, тут и Аджубей «руку
приложил»). С этого практически начался наш отдел, статья висела у нас на
почетном месте в рамке. Называлась она, заметьте, «При подъеме на гору», то
есть в общем и целом идем вверх, а при подъеме встречаются канавки, булыжничек,
можно оступиться, но – подъем!
Технологией школьного и вузовского
образования мы не занимались. О чем писали? О том, как достигается
стопроцентная успеваемость (был жупел такой, отражение тотальной лжи). О
попрании человеческого достоинства, но, повторю, отдельного учителя или
профессора. Воевали с пьянством, калечившим детские судьбы, причем долго
воевали. Выступив, не бросали тему или человека, а отслеживали судьбу,
возвращались к теме.
Я очень много занималась вузами.
Самые острые социальные моменты – прием и распределение. Здесь-то и цвел пышным
цветом антисемитизм. Мы никогда не писали слово «еврей», упаси Бог. Даже
фамилий не называли, их все равно вычеркивали цензоры. Брали конкретные случаи –
из писем (их было много). Я сохранила некоторые. Недавно Женя Альбац выпустила
книгу об антисемитизме в СССР, в которой использовала их. Половина – о приемных
экзаменах, половина – о приеме на работу. Я писала об этом бесконечное число
раз и должна сказать, что тут газета могла помочь, увы, очень редко…
Иногда приходили поразительные
письма, которые просто просились на полосу. Если позволите, расскажу об одном.
– Да, конечно.
– В вузах существовали внеконкурсные
льготные места для автономных республик, слабо развитых районов – для поддержки
в создании собственной интеллигенции. Однажды пришло письмо от учителя физики
из Якутии. Михаил Андреевич Алексеев писал о своем ученике Ване Николаеве.
Парень занимался все время прекрасно, и решено было послать его в МГУ – им дали
одно место. Но нашлась супружеская пара научных сотрудников, тоже якутов,
которые устроили так, что поехал не Ваня, а их дочь, девочка с довольно
посредственными способностями. И тогда Алексеев собрался из Заполярья в Москву.
Он был человек, прямой, простой, без всяких затей. Пошел сразу к министру,
попал, правда, к заместителю, все ему рассказал. Ваню все же приняли в Новосибирский,
а не Московский университет. Но почему Алексееву так хотелось послать своего
лучшего ученика именно в столицу? Потому что его ребята поступали в НГУ и без
всяких льгот. Они были постоянными участниками всех тамошних летних
математических школ. МГУ – новая ступень… Мне сказали потом, что современная
якутская физико-математическая интеллигенция на четверть состоит из выпускников
алексеевской школы.
У самого Михаила Андреевича –
потрясающая биография: он был политруком, попал в окружение под Уманью, потом в
плен, бежал, год шел к своим; а когда дошел, его обвинили в том, что он
японский шпион и естественно, отправили в лагерь, где он отсидел несколько лет.
Он вернулся на родину, в Якутию, был долго изгоем – как же, «сдался» в плен,
значит изменник! И этот человек нашел в себе силы начать все заново. Поступил в
пединститут, окончил его и создал в своем Верхневилюйске эту ставшую знаменитой
в Сибири школу.
В конце его письма, написанного
аккуратным, каллиграфическим почерком (он писал по-русски, как и говорил, до
смешного правильно), была после фамилии маленькая заклеечка, которую мне
удалось отклеить. Прочла: «награжденный Орденом Ленина». Первое, что я спросила
его в Верхневилюйске: «Почему вы это заклеили?» Он сказал: «Однако я подумал,
что это может повлиять на решение редакции о командировке. Я этого не хотел».
Потом он стал Народным учителем СССР.
Мы тогда много писали о сильных
людях, которые не только сохранили честь, совесть, но еще и умудрялись
взрастить это в своих учениках. О прославившемся на всю страну – горжусь своим
открытием – учителе Луневе из Харьковской области, который с помощью Фаворского
создал в селе великолепную картинную галерею. Одной из первых я писала и о
Лотмане, и о профессоре истории из Саратовского университета Пугачеве. Они много
чего себе разрешали, такие, как Лотман и Пугачев! Из писем «выуживали» яркие
личности, в том числе ребят, мальчишек и на этом детском материале защищали
право человека на собственное мнение, на свое восприятие мира, на достоинство.
Среди таких мальчишек были два
Бориса, два старшеклассника, которых учителя старались всяко, причем и
непозволительно жестоко, сажать на место, чтобы не «торчали». Один сейчас
руководит всем народным образованием в Киеве. Тогда он прислал в газету письмо,
где рассказывал о баталиях с учителями: «Они называют меня вошью на теле
общества, потому что я разрешаю себе с чем-то не соглашаться и отстаивать свои
принципы». После публикации очерка, мы долгие годы переписывались, пока он
учился в университете, работал учителем на Урале, растил собственного сына. А
другой Боря – из Смоленска, по отзывам крупных ученых с блестящим будущим
физика-теоретика, в 25 лет покончил с собой. Сколько таких мальчиков загублено!
Но говорить об этом позволялось опять же на примере отдельно взятого Бори.
– Очерки Аграновского тоже строились, как правило, на
конкретной судьбе человека, предприятия, идеи. Но выводили читателя далеко за
рамки этой конкретики, превращая единичное во всеобщее, в явление общественной
жизни. Они ведь так и воспринимались?
Да и мы все старались добиваться
того же. Но мы были просто хорошими, деловыми профессионалами, а он – красой и
гордостью газеты. Аграновский, конечно, занимал в «Известиях» особое, очень
высокое положение. Плюс совершенно потрясающее профессиональное мастерство,
которое и обеспечило это положение. Вместе с правом на особую публицистическую
смелость он обладал еще умением создать объемную картину. Писал он
немногословно. Иногда одной фразой, почти афористичной создавал подтекст, к
которому и придраться было нельзя, а под ним – такая глубина. Это же он сказал:
«Хорошо пишет не тот, кто хорошо пишет, а тот, кто хорошо думает». Хорошее
думанье сильно осложняло жизнь журналиста.
– Известинцы рассчитывали на определенный слой читателей. У
вас, например, Элла Максовна, была своя аудитория?
– Конечно, как и у каждого
сотрудника отдела. И был высокоинтеллектуальный авторский коллектив. Публикация
в «Известиях» для человека думающего означала тогда весомую добавку к тому, как
его воспринимали и как он сам себя воспринимал. Это была сильная поддержка. В
свою очередь авторы подпитывали нас.
– Как возникал этот круг?
– А сам собой. Люди знали позицию
отдела, многое читали между строк, следили, о чем мы пишем, чем интересуемся,
плюс престиж «Известий». Они приходили сами или писали в редакцию. Вообще
газета стояла на почте – и на полуграмотной и на высокоинтеллектуальной. Кроме
того, существовала большая сеть корреспондентов на местах, собкоров, державших
в поле зрения всю страну.
Наши читатели – в основном это все
же была газета интеллигенции – с большой долей вероятности знали, как мы
откликнемся, если они нам напишут, как прореагируем на определенную ситуацию.
Отклики приходили сотнями, а то и тысячами. Когда я начала заниматься бывшими
пленными и пропавшими без вести (это уже в 80-е годы) и опубликовала первую
полосу, получила шесть тысяч писем. Все так и не прочла, это невозможно. Но
перед Днем победы иду в библиотеку, где они лежат, беру папку, откладываю
очередную партию писем и делаю спецполосу. Так уже несколько лет.
– Воспринимается как очевидное, что у «Известий» и «Нового
мира» были, по сути, читатели одной и той же настроенности. Но вот Лакшин в
своей книге о «Новом мире» времен Хрущева замечает, что газета давила журнал,
выступая, скажем, против Эренбурга, Яшина, Некрасова. Чем объясняется такая
двойственность?
– Это не двойственность. Это норма
той жизни. Понятно, например: если уж Хрущев вышел из себя на выставке в
Манеже, то Аджубей не мог ему противостоять. Но были и прямые указания и
соответственно, черные статьи, выполненные по заданию. Наши читатели, я думаю,
понимали неизбежность, обязательность подлости, если можно так сказать. Более
того – представляли себе, кто может на заданную тему выступить. Ведь как оно
делалось – со Старой площади звонили главному редактору: надо такое-то,
тогда-то. И он безошибочно знал, кого может позвать, кому это сказать. Знал,
что Максимову звать бесполезно, следующим шагом могло быть только увольнение из
газеты. Жалко было, наверное, ее выгонять, потому и не звал. И десятки других
людей не звал. А были такие немногие, которых звал.
– Сейчас на страницах газет редко встретишь прежние славные
имена. «Та» журналистика, как утверждают, уходит. А, может, и уже ушла. Что, на
ваш взгляд, мы при этом потеряем?
– Человека потеряли, рядового,
неименитого. Остался он в рейтингах, диаграммах и уличных мини-интервью.
Экономико-политическая проблематика от него отодвинута напрочь, даже стилем,
набором слов. Как этому человеку втиснуться в информацию, считанную с
компьютера? Когда сам ее добываешь, то обязательно через кого-то, все же
человеческое общение. А между экраном компьютера и полосой откуда ему взяться?
Сегодняшний профессионал уже не способен, по-моему, загореться по причине, не
касающейся его лично. Зарабатывает в газете деньги, даже не имя. А с человеком
уходит основательность в работе, многогранность, многоцветность жизни.
И еще одна потеря. Не знаю даже, как
ее обозначить – дух общности, надежности, почти родственного единения. Конечно,
время другое, каждый сам за себя. И все же: газета сильна коллективом, а не
только отдельными публицистами. Была искренняя заинтересованность друг в друге –
ради интересов газеты. Возникали трудные, казалось бы, неподъемные темы. Но ты
мог поднять их с помощью других – только кликни. Да что говорить – они были
рядом с самого начала – при обсуждении задуманного.
Не могу не сказать здесь хоть
несколько слов о редакторе нашего отдела Любови Михайловне Ивановой. Она хорошо
писала, но мало: любила, когда пишем мы. Помню, как обговаривалась
командировка, как предварительно раскладывали варианты: если сложится так, а
если эдак. Возвращаешься, заходишь к Любови Михайловне, она уже потирает руки
от предстоящего удовольствия: приехала? Ну, садись, рассказывай, только
подробно!
Самые яркие известинские журналисты,
в том числе и Толя Аграновский, первым делом несли свои творения ей, она
непреременно спрашивала: «Будем говорить, как мужчина с мужчиной или нежно?»
Разговор бывал весьма мужским, но всегда конструктивным. Божьей милостью
редактор, логику материала, композицию, слово чувствовала прекрасно. И очень
была умна.
– Элла Максовна, возможно есть и какое-то превосходство у
современной журналистики, какие-то преимущества перед «старой»?
– Разумеется. Она оперативнее,
лаконичнее, хотя при этом бывает то малограмотной, то изощренно снобистской. Но
сравнение уместно лишь в профессиональном плане. Как можно сравнить прессу в
общем-то свободную и несвободную?
– Она сейчас свободна?
– Относительно прежней – безусловно.
Даже если считать это несвободой, то она другая. Тогда мы были несвободны от ЦК
КПСС, КГБ, от всяких наблюдавших компетентных органов. А сегодня если одна
газета и опубликует «заказуху», то завтра найдется другая, которая ее
опровергнет. На ту и на другую будет спрос. Как вообще можно сейчас говорить о
крупных, жизненно важных идейных категориях, касающихся всех! Влияние СМИ на
сознание общества? Но – какого общества? Влияние личности – какой личности?
Воздействовать на человека, готового от безденежья брать кол в руки и идти
громить всех и вся – это одно. На безработного инженера, вынужденного торговать
на рынке, – другое. Нет сейчас большинства. Судя по результатам, это не
очень-то хорошо. Но то, что было, – много хуже.
Все читают «свои» газеты, если
вообще читают. Возможно, с помощью газеты ищут единомышленников. Недаром
повсюду все больше материалов под рубрикой «Мнения». Да, «Известия» пытались в
свое время удерживать на пристойном уровне элементарные нравственные понятия.
Как говорила та же Любовь Михайловна, не опускаться «ниже ватерлинии». Но
действовала и другая пресса – «Правда», все областные, городские, районные
газеты, которые делались по ее подобию. Необозримое, бескрайнее «прессовое»
поле! Нас все-таки было мало, хотя у нас было очень много читателей.
] ] ]
|
Недавно в свет вышла новая книга
А.И. Волкова «Опасная профессия», которая продолжает разговор о становлении и
развитии современной журналистики. Подробнее об этой книге можно узнать на
сайте издательства Геликон Плюс. |
«ИЗ
ПУБЛИЦИСТОВ – ТЕХНОЛОГОВ МЫ ПРЕВРАЩАЛИСЬ В ОБЩЕСТВОВЕДОВ»
– Александр Иванович, в середине 60-х вы работали в «Правде»,
органе ЦК КПСС. Это после аджубеевских «Известий» и после того, как вас с шумом
сняли с должности редактора отдела «Советской России» – из-за конфликта с
отделами ЦК. Согласитесь, представляется нелогичным ваш последующий приход в
эту ортодоксальную, самую партийную газету. Плюс к тому там же оказались в то
время Лисичкин, Черниченко – то есть люди, явно чуждые официально-бюрократической
правдинской атмосфере, самостоятельно и критически мыслящие. Как и почему это
произошло?
– Можно было бы сказать – случайно.
Но все же не совсем так. Если по порядку, то я действительно после «Алтайской
правды» работал собкором «Известий» – как раз все годы с Аджубеем. Это была
замечательная школа. Если хотите, школа высокой журналистики. Профессиональной,
изобретательной, аналитичной и страстной. И это ведь Аджубей сказал, что газета
прежде всего должна быть интересной. Нам до того и в университете, и всюду
твердили: прежде всего – идейность, партийность, газета – коллективный
пропагандист, агитатор, организатор. А он сказал – «интересной». Потому что
газета – это собеседник читателя, который каждый день приходит к нему в дом. А
кому нужен скучный собеседник? Что он донесет до человека, если не
заинтересует?
Потом была «Советская Россия. С
Константином Ивановичем Зародовым, ее главным, работалось хорошо. Он тоже
стремился делать интересную газету. Его трудно сравнивать с Аджубеем: совершенно
непохожие люди, различались, я бы сказал, как аристократ и крестьянин. И
воспитание, и положение, и возможности, что и говорить, были совершенно разные.
Но в одном они были одинаковы – оба страстно любили газету, журналистику,
журналистов. Очень высоко ставили эту профессию. В 64-м, когда я пришел в
«Советскую Россию», она была знаменита необычной информационной полосой и тоже
блистала порой неожиданной тематикой. А вот когда Зародов ушел в «Правду» и
редактором стал печально знаменитый генерал Московский, действительно случилась
шумная история.
Меня тогда обвинили, что как редактор
отдела и член редколлегии не советуюсь в ЦК КПСС, «не сработался», так в самом
деле было официально заявлено, с отделами пропаганды и сельского хозяйства.
Поводом послужила моя передовая статья, которая возмутила члена Политбюро
Кириленко. Смешно вспоминать, но, оказывается, я выступил с призывом к
сокращению поголовья скота в стране. Надо же! Не хуже тоннеля от Бомбея до
Лондона. Конечно, за этим стояло многое – позиция газеты во времена Зародова,
противоречия между Кириленко и Вороновым, тоже членом Политбюро и Предсовмина
РСФСР, внутренние разногласия в редакции. Но факт, что Кириленко потребовал
моего увольнения, и мне дали 24 часа на размышление: либо уйду «по собственному
желанию», либо газету будут «слушать» на Бюро ЦК КПСС по РСФСР. Тогда бы уже,
конечно, пострадал не один я. И вот в этот момент известинцы предложили мне
вернуться к ним спецкором секретариата. Надо сказать, им требовалось мужество,
чтобы противопоставить себя члену Политбюро – известному самодуру. И ту же
должность предложил мне Зародов в «Правде». Его мотив был такой: пойдешь в
«Известия» – это тебя, бедного, битого, подобрали друзья, а в «Правду» – вроде
как на повышение, эффект от скандала с увольнением будет смазан. У меня дома
тогда собрались друзья – известинцы, россияне и правдисты, все вместе и решили:
надо идти в «Правду».
– Значит, все же случайно?
– Да не совсем. Зародов сказал
потом, что он меня и без этой истории собирался позвать в «Правду». Признаюсь
откровенно: я бы пошел. Постараюсь объяснить – почему.
Вы говорите: самое партийное
издание. Но ведь не партийных изданий в то время и не было. У тех же «Известий»
имелся свой куратор в отделе пропаганды. Даже у детской «Мурзилки» наверняка
был. Всем редакторам без исключения звонили из ЦК или члены Политбюро или заведующие
отделами (в зависимости от ранга редакторов) и давали указания, устраивали
разносы за какие-то публикации, всех вместе собирали на коллективные накачки.
«Правду», может, опекали плотнее. Но ведь и влияние ее было другое. Она была
все же главной газетой страны. Слово «Правды» по весомости ни с чем нельзя было
сравнить. Протолкнуть в этом «центральном органе» статью со смелой мыслью,
протащить даже одну хорошую формулировку значило многое. Значило, что это будет
замечено. Значило, что все это будут обсуждать. А партийный актив «примет к
исполнению». Сегодняшними мерками все это мерить невозможно и глупо. Мы ведь
верили тогда в возможность кардинальных реформ, но понимали, что с ними будет
трудно, уже столкнулись с сопротивлением партаппарата. Вот и шли в «Правду»,
чтобы «влиять». И не только на партийно-хозяйственный актив. На массовое
сознание – тоже, ведь тираж газеты подходил к 10 миллионам экземпляров.
Позиция газеты в то время имела
смысл: в КПСС существовала как бы не одна партия. В ней состояли разные по
взглядам люди. Там отнюдь не было монолитного единства. И я говорю не просто о
противостоянии кланов, борьбе за положение на иерархической лестнице, за
«доступ к телу» и т.п. Это была не только борьба за власть, что в политике,
конечно, всегда главное, но в каком-то смысле даже идейная борьба. Одни были
ортодоксами, другие хотели перемен. Мы находили общий язык со многими
хозяйственниками в отношении к тем же реформам, даже к идее рыночных отношений.
С некоторыми секретарями обкомов – тоже. Помню, уговорили первого секретаря
Тамбовского обкома партии написать нужную нам статью; он при этом решал свою
задачу – «показать область», а мы – свою: вставить в текст один важный абзац,
который от нашего имени не прошел бы, а у столь видного партийного деятеля
прошел, и мы потом на него сто раз ссылались и в «Правде», и в «Новом мире».
Тогда некоторые из нас в этом журнале регулярно печатались, и вот базу для
серьезного выступления заранее и специально закладывали в «Правде». У
Черниченко просто система была отработана: после очередной командировки сначала
статья в «Правде» страниц на восемь, а потом – очерк в «Новом мире» листа на
полтора-два.
Что касается внутренней правдинской
атмосферы, то она в то время как раз менялась. Пришел новый главный редактор
М.В. Зимянин, который поначалу хотел сделать что-то заметное. Первым замом стал
Зародов, почувствовавший к тому времени вкус к экономике, нашли общий язык, и я
уже знал, зачем к нему шел. Этот личностный момент играл большую роль. Оба
новых руководителя набирали новых людей под перестройку «Правды», о чем оба
мечтали. Зародов уже перетащил к себе Черниченко, потом и Лисичкина, и Егора
Яковлева, и Юру Воронова из «Комсомолки». В «Правде» образовался этакий слоеный
пирог: старожилы, народ действительно идейно непоколебимый, каждый – со
связями, часто со своим высоким покровителем в ЦК, и люди со стороны, но зато
опиравшиеся в своих новаторских попытках на руководство редакции. Там шла
внутри не очень откровенная, но и не очень скрываемая борьба. И, кстати,
благодаря упомянутым связям каждый конфликт становился известным в «верхах».
– А с какими идеями вы шли в «Правду»? За что намеревались
бороться?
– В «Правде» – уже определенно за
продолжение реформ. Если хотите – за рынок. Но сложилось это, конечно, не
сразу. Шаг за шагом шли к тому, к чему толкала практика. Для меня, например,
работа в «Алтайской правде», а потом в центральной печати все нагляднее
выявляла остроту сельских экономических проблем. На поверхности были диспаритет
цен на промышленную и сельскую продукцию; слабость стимулов к развитию
производства, материальной заинтересованности людей прежде всего;
администрирование – то, что колхозу или совхозу, как и промышленному
предприятию, сверху предписывалось, что производить и как. Мы и шли в своих
статьях, в организованных нами дискуссиях от конкретного, от частного к общему.
Мы начинали видеть, что эти вот частности возникают из нерешённости каких-то
более общих проблем, теоретических вопросов, из принципов устройства нашей
экономики. Прежде всего начинали осознавать ошибочность подхода к роли
товарного производства при социализме, а проще – в нашей реальности.
Как раз в эту пору многие из нас
переходили как бы в новую категорию журналистов, на новую ступень журналистики.
Если прежде, в 50-х годах, мы сосредоточивались на вопросах технологии и ругали
в своих статьях тех, кто не использует передовые методы бурения скважин или
квадратно-гнездовой посев кукурузы, видели все беды в несознательности или
косности отдельных руководителей, «ссылающихся на объективные причины», то
теперь усматривали корни в чем-то ином. Мы раньше, представляя себя на месте
председателя колхоза, думали, что достаточно применить в хозяйстве все, уже
созданное наукой, проявить энергию, волю – и добьешься успеха. Поэтому и
подавали заявления с просьбой послать в колхоз в числе «тридцатитысячников». Я
тоже подавал такое заявление, прошел пять инстанций, на последней, шестой, мою
кандидатуру отвергли, сказав, что молод еще… Каждый из нас специализировался –
один на сельском хозяйстве, другой – на промышленности, кто-то и еще ýже
– на угле или нефти (кстати, я сам после университета учился заочно в
сельхозтехникуме, считая важным постичь агрономию, коль пришел в сельхозотдел).
И вот постепенно
«публицисты-технологи», как я условно их для себя называю, становились
публицистами-экономистами. Не случайно в ту пору многие защитили диссертации по
экономике. И как раз на защите Отто Лациса в Институте народного хозяйства им.
Плеханова известный экономист Александр Михайлович Бирман говорил, что многие публицистические
статьи в журналах и даже газетах по глубине анализа отвечают самым строгим
требованиям, предъявляемым к научным трудам (он назвал тогда и конкретных
авторов).
Было целое поколение журналистов,
которые по-настоящему увлеклись социальными проблемами и пытались дать ответы
на сложные вопросы общественной жизни. Те, кто научился отвечать на эти вопросы
и видеть корни явлений в человеке, его положении в системе экономических
отношений, становились журналистами-обществоведами. Может быть, это была часть
поколения, потому что кто-то сумел отлично устроиться, приспособиться, писал
только то, что нравилось властям. Некоторых и замечали, брали, например, в
помощники к секретарю ЦК, крупному совминовскому деятелю – это уже было
недалеко, при соответствующем таланте, до партийного и советского чиновника,
которому самому полагался помощник. Или до редактора какой-нибудь газеты.
Кстати, мой предшественник на должности редактора отдела сельского хозяйства
«Советской России» и некоторые из тех, кто был после меня, проделали именно
такой путь. А были еще и другие – нейтральные что ли, которые шагали по «росным
колхозным лугам», летали на специально выделенном им вертолете над строящейся
Красноярской ГЭС или какой-нибудь другой великой стройкой и писали о героизме
«советских тружеников», считая себя истинными (если не лучшими) представителями
журналистики 60-х.
Но мне представляется, что типичными
для того времени были именно те, кто искал истину в глубине экономических
отношений, задумываясь, почему же социалистическое производство, которое,
казалось, еще недавно обеспечило победу в Отечественной войне, восстановление
разрушенного хозяйства и так далее, стало проявлять все большую
несостоятельность.
– Сейчас, когда едва ли не все – политологи, непросто,
наверное, представить, что именно вам приходилось отстаивать. Не могли бы вы
сказать о главном в содержании экономических выступлений?
– Название книги Лисичкина «План и
рынок» как раз отражало главную экономическую проблему, которая находилась в
поле нашего зрения. Заметьте, что и теперь многое вертится вокруг этой
проблемы: рыночные свободы необходимы, но и государственное вмешательство вроде
бы требуется. Одно без другого немыслимо, это, наверное, все понимают, однако
вопрос в конкретном соотношении этих двух элементов, в пределах и формах
вмешательства. А в то время слово «рынок» и сказать было нельзя. Говорили
«товарно-денежные отношения». Помню, как Суслов неизменно вписывал в текст о
товарно-денежных отношениях, если его посылали на согласование в Политбюро, определение
«социалистические». Они, естественно, должны были отличаться от
капиталистических. Мы писали о характере и уровне обобществления производства,
опираясь на аргументы Маркса, о материальной заинтересованности людей, ссылаясь
на Ленина. Известно: чем крамольнее мысль, чем она новее, тем больше требует
ссылок на авторитеты, требует опор в прошлом, общеизвестном, общепризнанном.
Писали о роли закона стоимости и так далее. Но все это было способом доказать
острую потребность перехода нашего общества к рыночным отношениям. Это все были
своего рода эвфемизмы, за которыми скрывался рынок.
Теперь нас упрекают: за что
боролись, на то и напоролись; вот вам рынок – радуйтесь. Но это смешно, какой
еще у нас рынок! А в преувеличении роли рынка нас упрекали – правда, это было
уже немного позднее – даже французские коммунисты, социалисты из разных стран,
с которыми приходилось встречаться. Что же это, мол, вы все про рынок, про
рынок. Сами же они напирали на необходимость государственного регулирования… И
однажды в беседе с французами я вслух задался вопросом: почему мы не понимаем
друг друга? Потому что, говорил я им, у вас есть рынок, а у нас его нет.
Представьте, скажем, что у вас есть бассейн, в нем вода, и вы думаете о ее
обновлении, подогреве, о том, что нужно построить вышку для прыжков, дабы
нырять поглубже. А в нашем бассейне вышка есть и спасательные круги разложены
вокруг, и даже средства от насморка, если, не дай Бог, кто-нибудь простудится,
но нет воды. И мы кричим: дайте воду, потому что мы уже прыгаем!
Меня все более увлекала и проблема
положения человека в производстве. Известно, что оно у нас было схоже с
крепостническим, едва ли не рабским (достаточно вспомнить, что до хрущевской
оттепели у крестьян и паспортов не было). Мы все – и крестьянин, и рабочий, и
тот же журналист – испытывали чувство отчуждения от средств производства, от
производства вообще, от собственности. Это самое мягкое определение нашего
положения. Мы сами, если хотите, вместе со средствами производства были
присвоены государством, а государство – собственность бюрократии. Вот мы и были
присвоены бюрократией – колхозники вместе с землей, рабочие – с заводами, а
журналисты вместе со своими столами и пишущими машинками. Брошюрка, которую мне
удалось издать, когда я уже работал в «Правде», называлась «Работа на себя».
Написанная на основе выступлений в «Советской России» и «Правде», она была
попыткой осмыслить возможности преодоления этого положения. Мы стремились
привлечь внимание к проблеме кооперации в чаяновском понимании, в ленинской трактовке.
Может быть, здесь мы как бы сужали проблему работы на себя, видели ее только в
такой вот форме, кооперативной. Все это оказалось более сложным.
Если взглянуть на наши представления
того времени с современных позиций, то можно сказать, что наше «совершенствование
социализма» выглядело как смешение социализма и либерализма. Мы верили, что
можно дать свободу производителю, обеспечить рыночный выбор потребителю, не
отходя от тех ценностей, которые связывались с общественной собственностью,
социалистической солидарностью, хотя мы уже различали для себя общественную
собственность и государственную собственность, писали об этом. И в общем это
отнюдь не было абсурдом, если понимать социализм и либерализм не как строй, а
как системы ценностей и ориентиров в общественном развитии.
Иллюзии наши заключались в том, что
мы верили в способность властей преодолеть собственную идеологическую косность,
зашоренность, обманывались звонкими словами в постановлениях о реформах.
Система оказалась куда более жесткой, чем нам тогда виделось. Но, повторю,
шли-то мы чаще всего от конкретного. Вот уже в 1964 году в «Советской России»
мы вели три дискуссии одновременно, параллельно: о материальном стимулировании
производства; о земельном кадастре и цене на землю (дискуссия, которая до сих
пор не завершилась, можно сказать); о проблемах Нечерноземной зоны (к которым
тоже сто раз многие возвращались в разные времена). Обсуждались и социальные
проблемы села. Потом все дискуссии как бы слились в одну, как раз перед
Мартовским пленумом ЦК КПСС 1965 года (который был достаточно прогрессивным по
тем временам).
Накануне пленума опубликовали
обобщающую статью, она так и называлась – «Проблемы сельской экономики». Статья
была, видимо, неоднозначно воспринята в верхах, последовал звонок от Воронова и
Полянского с просьбой дать записку, в которой мы высказали бы свои предложения
к пленуму на основе этой статьи. Мы написали такую записку, а потом отыскивали
в партийных документах строчки, которые нам казались именно нашими (там
ставился вопрос об экономических способах управления экономикой, вопреки
административным, предполагалось «всемерное использование товарных отношений» –
фразочка, которую мы двадцать раз потом цитировали, а нас за это цековские
аппаратчики критиковали, как будто это не было записано в решениях пленума, – и
т.д.). Сейчас, конечно, немного смешно это вспоминать, но все-таки что-то и
было сделано, не зря сделано. Это, кстати, тоже показатель влияния на сознание
людей – на сознание того же партийного актива и даже партийного руководства.
– Не хотите же вы сказать, что писали свои статьи «для
начальства»?
– Ну, и для него в немалой степени,
оно решало. Понятно, конечно, что не только для него. Создавалось общественное
мнение. Очень важна была для нас реакция людей (знакомых и незнакомых), близких
по взглядам. Радовались, когда звонили друзья и хвалили статью. Стремились
привлечь больше единомышленников и обращать в единомышленники все новых и новых
своих читателей. Но уже тогда мы прекрасно понимали, что существует проблема восприятия
этих мыслей и идей, что оно различно у людей с разным, как теперь говорят,
«менталитетом». Среди тех же крестьян одни давно приспособились к системе,
другие – ею мучались. Мы рассчитывали, конечно, на людей второго типа, а каких
было на самом деле больше – и сказать трудно.
Дискуссии такого рода были важны не
только с точки зрения выяснения истины. Они способствовали, да и способствуют в
каждом таком случае, самоопределению человека, отысканию «своих», их общению.
Люди находят друг друга через газету, показателем чего становятся письма.
Скажем, почта сельхозотдела в «Советской России» на гребне экономических
дискуссий выросла вдвое – причем не за счет традиционных жалоб (бригадир не дал
лошадь, председатель с утра до ночи пьет и т.п.), а за счет откликов-рассуждений
на социально-экономические темы, довольно уже сложные, идущие в глубину
проблем, в глубину тех причин, которые порождали трудности в сельском
хозяйстве.
– Скажите, Александр Иванович, а кого из авторов вы
привлекали, стремясь проводить определенную линию в той же «Правде»? Вы были
свободны в своем выборе? В какой мере газета при этом играла роль организатора?
– Тут я «твердый ленинец»: газета –
общественный организатор. Мы начали с того, что собрали в редакции «круглый
стол» молодых экономистов: Кассиров, Лемешев, Карлюк, Морозов – всех даже не
вспомню: иных уж нет, а те – далече. Далече порой идеологически. Каждый за этим
«круглым столом» начинал свое выступление так: «Вы это все равно не
напечатаете, но я считаю…» Мы напечатали очень многое, получили свои шишки, но
вот так у нас и стал складываться хороший актив экономистов, который собирался
по любому зову, даже тогда, когда надо было не только статью подготовить, а и
представить, например, в ЦК «предложения к докладу товарища Брежнева» и прочее.
Очень нам помогали такие ученые, как Лев Леонтьев, Александр Бирман, Игорь
Бирман, ныне американский профессор; писал нам Бронштейн, известный теперь в
Эстонии экономист и общественный деятель; писал Алексей Емельянов; тесно
сотрудничал с нами в «Советской России» и «Правде» Павел Гужвин, в то время
заведующий сельхозотделом ЦСУ РСФСР, а потом и его начальник. Это был коллектив
авторов – единомышленников, объединенных идеей «перехода к товарно-денежным
отношениям», как тогда говорили.
– Это касалось только выступлений по сельской тематике?
– Если говорить об экономических
дискуссиях того времени, то, конечно, надо прежде всего вспомнить статью
академика Немчинова, опубликованную в марте 1964 года в журнале «Коммунист».
Надо вспомнить статью Либермана, по-моему, в «Правде», которая привлекла
широкое внимание публики (хотя, на мой взгляд, была не столь интересна). Все
основные принципы реформы 1965 года, косыгинской реформы, были изложены именно
в статье Немчинова. И последовавшие дискуссии как бы разделились на
«промышленную» и «сельскохозяйственную». Глупо, но факт.
Я же говорю больше о сельской
тематике не только потому, что сам ею «болел», но и потому, что в то время она
занимала особое место в работах экономистов, журналистов, в творчестве
писателей. «Деревенщики», как их называли, лидировали в постановке актуальных
для общества вопросов. В «Правде» мы создали актив не только экономистов, но и
писателей. В то время их у нас выступило больше тридцати, насколько мне
помнится. С писателями работал Виталий Степанов, которого специально выделили
на это дело: он умел посидеть с ними за чашкой чая, неспешно потолковать, а
главное – послушать, что для писателей-«затворников», может, было всего ценнее.
«Пригрели вы меня», – сказал как-то Александр Яшин после очередных таких
посиделок. А в результате рождалась тема выступления в газете. Мы напечатали
тогда тех, кого отлучили буквально от всех изданий – Яшина, Дороша, в какой-то
момент опального уже Крутилина. То же было и в некоторых других изданиях
(скажем, с сельхозотделом «Известий» сотрудничали порядка десяти писателей, в
том числе опальный Борис Можаев). Это, несомненно, поднимало уровень
публицистики.
Кстати, хороший, по-моему,
телеведущий Парфенов в своем цикле передач исторического характера, рассказывая
о 1966 годе, назвал писателями-«деревенщиками», чье творчество стало серьезной
критикой колхозной системы, Абрамова, Белова, Астафьева, Распутина, даже как бы
свел их в один отряд. Это было по меньшей мере неточностью. Да, уже был
известен Белов; Астафьев и Распутин начали тогда печататься, но только еще в
провинциальных изданиях, и их мало кто знал. Абрамова знали как литературного
критика, но лишь в 1968 году он опубликовал в «Новом мире» свои «Две зимы, три
лета»... «Деревенщиками», которые действительно в то время будоражили
общественность своими правдивыми рассказами о селе, называли прежде всего
Овечкина, Дороша, Крутилина, Радова, Можаева, Яшина и с 1966 года – Белова. Я
не пытаюсь «расставить» их в каком-то осмысленном порядке. Абрамов вошел в эту
плеяду, мощно заявил о себе, но все же это было позднее.
– Вы действительно склонны считать, Александр Иванович, что
тот газетный «натиск» 60-х годов существенно повлиял на суть реформ,
последовавших через двадцать с лишним лет?
– В этом смысле у нас есть любопытное
свидетельство: мемуары «Жизнь и реформа» Михаила Сергеевича Горбачева. Если
позволите, я приведу некоторые его высказывания.
В те годы, о которых мы говорим,
«Правда» и ряд других газет выступили в защиту Иннокентия Баракова, начальника
Георгиевского производственного управления на Ставрополье. Горбачев работал
тогда в Ставрополе, хорошо знал Баракова, называет его в своей книге ярым
поклонником Лисичкина, пишет, что он выступал с предложениями расширить права
колхозов в распоряжении произведенным продуктом, разрешить его свободную
продажу, смягчить государственный план. Пока дело ограничивалось разговорами,
пишет Горбачев, это мало кого волновало. Когда же Бараков в своем Георгиевском
районе попытался осуществить эти идеи на практике, все всполошились, восприняли
это чуть ли не как открытую атаку против системы в целом.
«Правда» выступала в защиту Баракова
дважды, и это все-таки не помогло – его сняли с работы. Горбачев в своей книге
делает вывод, с которым трудно не согласиться: преобразования в сельском
хозяйстве того времени, как и в промышленности, проводились в заранее четко очерченных рамках, выходить за
них не дозволялось. Даже Брежнев, докладчик на мартовском пленуме ЦК, лавировал
между различными группами в Политбюро, но по сути тщательно маскировал свою
приверженность консервативным взглядам. Поэтому «дело Баракова» «стало свидетельством, с одной стороны, назревших
перемен, а с другой – жесткой реакции системы на саму возможность подобного
рода изменений».
А я теперь добавлю от себя: оно стало
и свидетельством того, что «Правда», как бы подчеркнув значимость того «дела»,
оказала влияние и на самого Горбачева. Оно ему запомнилось, и выступление
газеты запомнилось, и фамилия Лисичкина, как видим, запомнилась. Михаил
Сергеевич дальше вспоминает и второй эпизод – атаку «Сельской жизни» на
правдистов и «Новый мир». Все это, наверное, как-то сказалось на его созревании
как реформатора, подвигнуло к освоению идей рынка, хотя известно, что он шел к
ним трудно.
– По вашим рассказам, Александр Иванович, может сложиться
представление о «Правде» того времени как об очень прогрессивной газете. Но вы
же и сами согласитесь, что это было не так.
– Но именно по вопросам экономики,
особенно сельской экономики, нам кое-что удавалось сказать. Мы даже выходили далеко за рамки
проблем села и, скажем, лисичкинская статья о НЭПе, которую «Известия» не
решились напечатать, а мы напечатали, ставила вопрос о товарно-денежных
отношениях в условиях общественной собственности. Напечатали довольно дерзкую
по тем временам статью Белкина и Ивантера о банках… Конечно, все было в
«Правде» вполне «правдистским», кроме, может быть, вот этих некоторых вещей. Но
эти «вещи» все-таки были очень значимыми. Недаром один экономист, выступая на
Отделении экономики Академии наук СССР, размахивал «Правдой» и призывал так же
смело, как она, ставить вопросы экономики, вопросы формирования
товарно-денежных отношений. Это о чем-то говорит.
Ведь доходило до парадоксов. Однажды
заместитель главного редактора «Правды» Борис Иванович Стукалин приезжает из ЦК
и говорит, что существует большая записка, в которой «Правда» обвиняется не
больше не меньше, как в отступлении от линии XXIII съезда партии. Записку
предлагается вынести на обсуждение Секретариата ЦК. Сама она никем не
подписана, но сопроводительную бумагу завизировал Федор Давыдович Кулаков,
секретарь ЦК КПСС, ведавший в то время сельским хозяйством. Вот так: главная
газета партии против линии партии...
Мы раздобыли эту записку. В ней
«Правду» обвиняли в том, что газета не только не показывает пример другим, как
«Сельская жизнь» (а она была там представлена в качестве образца партийного
подхода к проблемам экономики), не только не одергивает тех, кто зарвался, а
публикует материалы, не совместимые с решениями пленумов ЦК партии и даже ее
съезда. Яростной критике были подвергнуты наши авторы, цитировалось множество
наших статей. Все эти факты, утверждала записка, говорят о том, что
установившийся в «Правде» подход к освещению экономической жизни села не
случайность, а линия газеты…
Этот документ содержал более 20
страниц. Нам с Лисичкиным поручили подготовить ответ, и мы разразились на 25
страницах. Наш текст перед подписанием Зимяниным и отправкой в ЦК долго
правили, можно сказать, вылизывали, но он был все-таки достаточно резким и в
последнем своем варианте. Он заканчивался утверждением, что авторы записки
«предъявляют необоснованные претензии «Правде», допускают неправильное
толкование некоторых важнейших положений экономической политики партии в
сельском хозяйстве и дают органам печати теоретически не обоснованные
рекомендации, ориентируют на свертывание творческих поисков в области
экономики, утверждая монопольное положение в печати определенных, порой
устаревших взглядов на экономические процессы». Короче говоря, мы обвиняли
своих оппонентов в том же, что и они нас: в отступлении от линии партии в сфере
экономической политики. А линия-то уже так завиляла, что о ней самой можно было
сказать что угодно.
Не буду подробно рассказывать о
дальнейшей полемике главного редактора «Правды» и секретаря ЦК, в итоге обе
записки были отозваны, мы торжествовали победу. Но то была пиррова победа. Для
начала Лисичкина перестали печатать в «Правде». Просто откровенно было сказано,
что любая его публикация вызовет большие неприятности. Потом стала невозможной
и моя жизнь в «Правде», и Черниченко. Все мы оказались за пределами редакции и
даже прессы вообще.
– Наверное, это естественно, когда все средства массовой
информации подчиняются одному центру, когда редакционные планы утверждаются в
партийных инстанциях, а статьи посылаются туда на согласование, когда
вмешательство в работу журналиста – дело повседневное. Не «вписались»?
– Как-то я смотрел телепередачу, в
которой известные журналисты нового по сравнению с моим поколения спорили,
неизбежна ли для них продажность. Я завидовал той возможности открыто выражать
свое мнение, критиковать власти, которой они теперь обладают. Но вдруг поймал себя на мысли: а
ведь мы, те, кто работал в пору жесткого партийного контроля над прессой, были
свободнее, чем наши молодые коллеги сейчас. И мы не считали себя продажными,
несмотря на то, что сознавали несвободу, в которой приходилось действовать,
несмотря на то, что постоянно ощущали партийную грубую опеку. Дело в том, что
мы противостояли этой несвободе. Мы видели для себя возможность выбора и делали
этот выбор. Мы, конечно, приспосабливались к условиям, но ради того, чтобы
реализовать свои идеи. Если надо было протащить в печать некую актуальную
мысль, помочь разрешению некой назревшей проблемы, мы готовы были не только
использовать специально подобранные цитатки из классиков марксизма, но и
ссылаться на того же Брежнева, постановления ЦК, вовсе не считая это уступкой
ортодоксам и ретроградам, потому что знали, чего хотели, чего добивались.
– И все кончилось в 1968 году, с вводом войск в Чехословакию?
– 1968 год, конечно, веха в истории
страны. Скажем, Витторио Страда утверждает: рассматривая период от смерти
Сталина до назначения Горбачева, можно видеть, как он явственно распадается на
две части – до 68-го и после него. От этого года некоторые исследователи
отсчитывают время «семидесятников», противопоставляя их «шестидесятникам». На
мой взгляд, все не так просто. Да, ввод войск в Чехословакию нанес удар по
иллюзиям о возможности совершенствования социализма. Казалось даже – положил им
конец. Но он же породил в общественном сознании и четкое представление, что при
таком, как есть, социализме жить нельзя. Различные формы инакомыслия резко
усиливаются – от молчаливого несогласия с решением высших властей до активного
протеста, от осознания насущной необходимости пересмотреть некоторые основы
этого социализма до его полного отрицания.
Казалось, что реформы совсем
задушены бюрократией, но в то же время усиливается ощущение, что экономика и
по-старому развиваться не может. Экономисты ищут новых решений и предлагают их
прессе. Казалось, что журналистика просто разгромлена. «Правда», «Советская
Россия» особенно резко меняются. Оттуда ушли многие журналисты, которые
определяли их лучшие черты. Но «Известия» держатся куда приличнее, хотя они тоже
кое-кого потеряли (газету основательно «подорвал» только Алексеев, возглавив ее
после «Сельской жизни», однако это было уже позже, в 1978 году).
Журналисты-обществоведы, как я условно их назвал, те самые шестидесятники,
прорываются на страницы разных изданий со своими прежними идеями.
Нет, в 68-м все не кончилось.
Переход к застою, особенно в прессе, не был одномоментным. Власти не сразу
выработали новые правила игры, а журналисты не сразу с ними смирились.
Потребовались еще долгие годы, те самые годы застоя, чтобы вытравливать и
вытравить из сознания людей, и то не до конца, идеи преобразования общества.
Лучшим подтверждением, что это не удалось, служит возрождение в восьмидесятые
годы, в пору перестройки, тех же идей и тех же иллюзий, связанных с совершенствованием
социализма, что были у шестидесятников. Это время нового, я бы сказал,
торжества шестидесятников. Другое дело, что прежний потенциал идей к тому
времени уже оказался явно недостаточным.
– Любимый вами жанр экономической публицистики явно переживает
сейчас не лучшие времена. Как вы к этому относитесь?
– В журнале «Журналист» не столь
давно была опубликована статья Владимира Гуревича на эту тему. Хотя и с
оттенком ностальгии, он говорит о спаде, если не о закате (!) экономической
публицистики, противопоставляя это явление «подъему жанра экономических
новостей, оперативного комментария, а также возникновению особой
бизнес-журналистики». И если бы он просто остановился на констатации фактов. Он
же пытается доказать не только естественность рождения такой журналистики (с
этим странно не согласиться), но и закономерность краха публицистики, даже ее
ненужность. На экономическую публицистику нет спроса, – вот в чем видит Гуревич
причины ее «заката».
Характерно начало его статьи – о
том, что современный Гамлет задается вопросом, куда вкладывать деньги. Уж если
так заземлять Гамлета, то вопрос, скорее, в ином, в частности и для газет: где
взять деньги? Но главное – нельзя заземлять! Это ведет к ложным вопросам и
ложным ответам. Гамлета, как и прежде, волнует все то же: «Быть или не быть?
Что благородней духом…» И, как говорится, далее по тексту, разве что с учетом
новых реальностей. Иначе это и не Гамлет вовсе – совсем другой парень. И этого
парня не нужно смешивать с Гамлетом и не нужно противопоставлять ему.
Так же, на мой взгляд, нет никакого
реального противостояния или конкуренции журналистики, обслуживающей рынок (информация, прогнозы по поводу инфляции,
налогов, рейтингов и так далее) и журналистики, осмысливающей главные проблемы общественного бытия, общественных
отношений, в частности, в сфере экономики (что и составляет суть публицистики).
Появление первой связано, естественно, с новым спросом, с рождением рынка, но спад второй, если здесь в самом деле
есть предмет для беспокойства, никак с этим не связан. Причину надо искать не в спросе, а в предложении. Не вижу
оснований совсем уж впадать в панику, есть в сегодняшней печати интересные
статьи, и журналисты-мыслители тоже есть. Но предложение, может быть,
действительно еще не соответствует спросу.
Другое дело, что не журналисты
только виноваты в неспособности удовлетворить этот спрос. Просто не созрели в
обществе новые серьезные идеи.
] ] ]
«Я ЗНАЛ,
ЧТО ДУМАЮТ ЧИТАТЕЛИ «ИЗВЕСТИЙ», «ПРАВДЫ», «ТРУДА», «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ»
– В середине шестидесятых вы, Владимир Эммануилович, провели
серию исследований по изучению читательской аудитории ряда центральных газет[4]. Как возникла сама идея такого рода исследований? Чья это
была инициатива – редакций или лично ваша?
– Нет, отнюдь не моя. Я оказался
втянутым в эту историю (и не скажу, что был этим огорчен, напротив). Как
получилось, что я – еврей, беспартийный, человек с либеральной репутацией,
находившийся под колпаком КГБ – стал не только вхож в редакции крупнейших
советских газет, но, по сути, проводил экспертизу их деятельности?
Я защитил докторскую диссертацию по
экономике и, в общем-то говоря, определял свой дальнейший путь. По первому
образованию я историк, больше всего интересовался социальными делами.
Экономикой занимался в силу того, что в тех условиях мне нельзя было двигаться
ни в какую сторону, более близкую социальным проблемам (из-за упомянутых уже
обстоятельств). И все-таки 1966 год, несмотря на снятие Хрущева, был еще
временем либеральных настроений. Это был весьма специфический период.
Брежневский режим уже явно ориентировался на восстановление (в какой-то
степени) сталинских норм. Едва Хрущев был отстранен, Леонид Ильич 9 мая на
торжественном заседании по поводу Дня победы произнес первые хорошие слова о
Сталине. И они были встречены аплодисментами. Это была явная попытка двигать
страну в определенном направлении. И, собственно говоря, тогда интеллигенция
это поняла. Многие встали на защиту ХХ съезда партии, появились первые
«подписанты».
Снять Генерального секретаря – с
моей точки зрения, опасная акция для советской системы. Непонятно было, что
может произойти. И брежневский режим чувствовал себя не очень уверенно,
отступил и даже как бы продолжал в мягкой форме реформы. Тогда-то появилась
знаменитая статья Румянцева в «Правде» – «Партия и интеллигенция», которая всех
нас очень обрадовала, потому что практически нам было официально сказано: «Мы
будем продолжать линию Хрущева и будем более уважительны, не позволяя себе по
отношению к художникам, писателям того, что позволял он. Без вас мы не
обойдемся». Таково было тогда послание. Вот на этой волне и стали развиваться
социология и ее «родственники» – математические и экономические методы, они шли
вместе. Были созданы Институт социологии и Центральный экономико-математический
институт. Оба стали оплотом либерализма в стране (во всяком случае, на какое-то
время). В этот период социология и рассматривалась партией, Центральный
Комитетом как некий символ, доказательство того, что руководство страны готово
идти на известный прогресс во взаимоотношениях с интеллигенцией, готово что-то
менять и т.д. (консерватизм, который был как бы задуман в 1964 году, начался
позднее, в 1968–1969 годах). Руководство, переоценивая опасность интеллигенции,
старалось сохранить лояльность, да и для Запада это было совсем недурственно.
Вот именно тогда, в 1966 году,
корреспондент «Известий» по Новосибирской области Василий Давыдченков от имени
редакции обратился к Абелу Аганбегяну с предложением провести некое
социологическое исследование. Собственно, он передал просьбу: выяснить там, в
Академгородке, не могут ли они для газеты провести анализ ее читательской
аудитории. Аганбегян обратился ко мне. Надо сказать, что у нас были довольно
сложные отношения. Я его уважал, ценил его энергию, организаторские
способности, его «либеральную подкорку» – в общем-то он был в прогрессивном
«лагере». Но я тогда числился как бы «лидером оппозиции по отношению к
Аганбегяну». В тот момент людей, близких ему, кого он мог бы попросить заняться
«Известиями», «в наличии» не было. И Аганбегян сказал: «Ну, Володя, ты всегда говоришь,
что любишь социологию. Вот, пожалуйста, и возьмись». А я понял, что это
интереснейший шанс, и нельзя его использовать каким-то ограниченным образом:
надо провести всесоюзное исследование читателей газеты. Я убедил в перспективах
такого масштабного исследования корреспондента «Известий», потом – уже вместе с
ним – мы убедили в этом руководство газеты. И я получил карт-бланш и огромные
ресурсы, о которых никто в социологии не мог тогда и мечтать. Газета была
богатая, тираж был огромный. Он рос – росли и доходы.
Когда потом, через несколько лет, мы
с Давыдченковым пришли к Аджубею в гостиницу, в Академгородке, он сказал: «При
мне это было бы, наверное, невозможно». «Как? С вашим тестем?» «Нет, это было
бы невозможно». Что, мол, политически невозможно.
– Имелось в виду, что исследование выходило за рамки чисто
газетных проблем? Или его итоги воспринимались именно таким образом?
– Ну, представьте, вы приходите в
редакцию и говорите: «Товарищи журналисты! А вы же не знаете своих читателей».
Во всех редакциях были твердо уверены, что они их прекрасно знают: «Мы же
читаем письма!» Было аксиомой, что партия знает народ, потому социология в этом
смысле была политически острым инструментом. Мы фактически объявляли
государству, партии, что они не знают свой народ.
– Вы ставили знак равенства между «партией» и «газетой»?
– Конечно. В общем-то это была
господствующая политическая структура.
– Вы проводили исследования по четырем газетам. Это были
«Известия», «Правда», «Литературная газета», «Труд» – издания весьма различные.
И вы, таким образом, полагали, что у всех у них одна и та же читательская
аудитория?
– Нет. Мы-то точно знали, что нет.
Но в каждой газете считали, что она-то – газета всего народа. Моя мысль была
такова: в каждой редакции уверены, что их читают вся страна и все группы
населения. Никто не исходил из того, что у них своя, особая аудитория. Даже
«Литературная газета». Наверное, здесь не может быть однозначного толкования.
Это уже история, дело памяти, восприятия. Вот таково мое восприятие. У тех, кто
работал тогда в газетах, оно, возможно, другое. Но я утверждаю, что поведение
руководителей газет по этому параметру было одинаковым: все были удивлены,
когда мы им принесли результаты исследований о составе их читателей. В газете
«Труд», например, очень удивились, что их читатели – прежде всего люди с
образованием ниже среднего. Не хотели этому верить. Им это было неприятно.
Здесь думали, что «Труд» – не менее интеллигентная газета, чем, скажем,
«Известия». И когда мы показали: вот ваши читатели – это было для них неким
шоком.
«Литературную газету» в основном
читала интеллигенция, значительное число рабочих, но отнюдь не все категории
населения (как казалось). В «Правде» были менее удивлены своим читательским
составом. Здесь исходили из того, что в общем-то адресуются к членам партии,
партийным работникам. Это были их подписчики. В значительной мере на «Правду»
была ведь принудительная подписка; никаких ограничений – в отличие от
«Известий» и «Литературки».
– А в «Известиях» чему удивились?
– В отношении состава читательской
аудитории удивились мало. Здесь было другое. Во всех газетах мы предложили
журналистам: «Прогнозируйте результаты опроса». Дело в том, что социология –
такая наука, у которой всегда найдутся оппоненты. Типичная реакция на любой
социологический результат: «Это я и так знал»… Ну, в данном случае все ошиблись
в прогнозах, попали пальцем в небо. Все, без исключения. И в общем согласились
признать наши результаты только благодаря престижу Академгородка и кибернетике.
Да, за нами была кибернетика, компьютеры. Без компьютеров социология могла
вообще не возникнуть, не получила бы тогда признания. А я представлял
компьютеры. Так, если говорить очень жестко и грубо. Это была объективность.
Вот что сказала машина – так оно и есть. И этим я активно пользовался.
Казалось бы, заинтересовались нашими
исследованиями и «наверху», в ЦК. Позвонил Косолапов Ричард Иванович, в то
время (1967 год) инструктор отдела пропаганды: «Владимир Эммануилович, вот вы,
значит, проводите исследования. Мы хотели бы вас послушать». Я сказал: «С
большим удовольствием». Вообще внимание Центрального Комитета для меня было
важным – всегда это было признаком какой-то безопасности. «Вам позвонят из
Новосибирского обкома, скажут обо всех деталях» и т.д. Проходит день, два, три,
четыре, а никто не звонит. Только потом Василий Давыдченков мне объяснил, что
произошло. Они позвонили в обком и спросили: «Какой номер партийного билета
Шляпентоха?» Когда узнали, что номера вообще нет, они немедленно забыли о
приглашении, вместо меня поехал Давыдченков, он щадил мое самолюбие и потому
ничего мне не сказал.
Чтобы закончить эту линию, нужно
сказать: к концу 1969 – началу 1970 годов у меня в руках была политическая
информация совершенно бесценного характера – данные об опросах читателей
«Правды», «Известий», «Литературной газеты», «Труда». Конечно, с учетом
ограничений того времени. Я лучше, чем кто-либо в стране, знал, что думают
советские люди. Так получилось. И я ни разу, никогда не был приглашен в
Центральный Комитет с каким-нибудь докладом. Меня, автора, который знал все
детали, мог рассказать тысячу разных вещей, никто не счел нужным (или
возможным?) выслушать. Вот что такое советская система, социология печати и
т.д.
Когда я уезжал из страны, в моем
доме был огромный, уникальный архив. Никому это не было интересно. Я хотел даже
отдать его КГБ (шучу), лишь бы кто-то им воспользовался. Но никому это не было
нужно. Никому.
На одной из своих первых лекций в
Америке по советской социологии я объяснял гражданам разных ведомств, включая
министерство обороны, ЦРУ и прочее, что советское правительство, советское
руководство социологией мало интересуется и даже всячески ей мешает. После
лекции подошел ко мне какой-то большой человек и сказал: «Доктор Шляпентох, что
за странные вещи вы говорите? Руководство страны не заинтересовано в получении
информации о том, что происходит в обществе? Этого не может быть. Это же в его
интересах, иметь такую информацию». А я ему сказал: «Видите ли, если у
руководителя американской корпорации дела идут из рук вон плохо, то захочет ли
он финансировать исследования, которые расскажут, сколь плохо идут дела в
корпорации? В интересах ли это руководителя? Такая информация может попасть в
руки его политических противников и других. Поэтому он разумно рассуждает:
«Лучше мне без этой информации обойтись. Я потеряю меньше, нежели если ее
использую».
– А насколько была востребована полученная вами информация
самими газетами? В какой мере оказалась полезной, повлияла на их содержательный
уровень, рост тиражей и т.д.?
– По сути, по большому счету газеты
интересовались ею умеренно. Кто-то где-то написал, что мы своими исследованиями
СМИ повысили тираж одной газеты в пять раз. Какая чушь, какой вздор! Ничего
этого не было. Для газеты наше исследование было прежде всего символом того, что
она тоже прогрессивна.
Но были и результаты, которые в
газетах, несомненно, восприняли. Пожалуй, одним из самых сенсационных стало
мнение читателей о передовых статьях «Правды».
– Что их никто не читает?
– Вот это была глубокая ошибка. Их
читали, и в первую очередь. И не только партийные работники. Это были
инструкции, руководство. Сами журналисты «Правды» презирали эти передовые. Во
всех газетах презирали партийный идеологический материал и считали, что так же
к нему относятся и читатели… Ну, сколько процентов читает передовую: пять,
десять – больше никто в нашем экспертном журналистском опросе не называл. А
оказалось, что частично или полностью их читало процентов восемьдесят читателей
«Правды». Потому что это же «дух», позиция руководства страны на сегодняшний
день.
Как-то я был в семье знакомых –
преподавателей-обществоведов. Он сидел и читал материалы съезда партии. У него
было пять цветных карандашей. И каждый использовался для того, чтобы выявить
какие-то партийные позиции по разным вопросам. Это у нас был высший уровень
чтения газеты. А «Правду» читало все руководство, на всех уровнях
бюрократической иерархии. Одна из замечательных особенностей советской системы
в том, что в ней была масса маленьких начальников. Она культивировала маленьких
начальников, вручая огромному количеству людей какой-либо элемент власти над
другими людьми. Пусть человек даже будет агитатором – он уже приобретал
какой-то маленький рычаг воздействия на других людей. Это было мощным
цементирующим фактором системы. И «Правда», ее передовая статья были тут очень
важны.
Что выявилось еще? Это интерес к
международной информации. Он был большим и в значительной степени определялся
тем, что жизнь внутри страны была скучной и писали о ней скучно, а в
международной жизни что-то происходило.
– А как в отношении восприятия аналитических материалов,
скажем, по экономической проблематике?
– По-моему, тогда их читали мало.
Даже в «Литературной газете». Всюду вышли на первый план моральные проблемы.
Проблемы человека. Это давало пищу для ума.
– Где-то в середине вашего большого исследования случился
1968 год. Отразились каким-то образом события в Чехословакии на читательской
аудитории? Или ваши исследования не смогли это зафиксировать?
– Что мы выяснили тогда? Что
интеллигенция в основном была либерально настроена. Исследование по
«Литературной газете», с учетом ее аудитории, особенно это выявило: 70
процентов интеллигенции было «за социализм с человеческим лицом». Сомнений тут
не возникало. Мы же придумали вопрос, которым я хвастался потом в Америке.
Нельзя было спросить: «Что вы думаете о социализме и капитализме?» и т.д.
Поэтому мы спросили: «Каких современных авторов вы любите? Каких не любите?
Назовите последние произведения, которые вам понравились». Затем мы
предполагали каким-то образом определить, какова позиция названных авторов. У
меня даже был специальный разговор с Чаковским: «Александр Борисович, создайте
экспертную комиссию, и пусть ваши писатели определят позицию автора». Чаковский
понял, что это «западня», что политический аспект я решил «взвалить» на него:
дадут они ту или иную политическую оценку, а мы потом это используем. И
отказался. Он сказал: «Владимир Эммануилович, делайте, что хотите, но этим
здесь заниматься не будем». Тогда мы прибегли к другому варианту. Почти все произведения
современных писателей публиковались вначале в толстых журналах. В каком именно?
В «Новом мире», «Октябре», «Иностранной литературе», в «Юности» или где-то еще?
Преимущество «Нового мира» в опросе читателей «Литературной газеты» было
бесспорным. А «Новый мир» был своего рода символом. Для определения его позиции
не надо было никаких специальных исследований. Твардовский был сторонником
«социализма с человеческим лицом», и журнал был таков. И либеральная ориентация
интеллигенции была однозначна. Как говорится, это «документировано».
Сторонников сталинизма, типа проповедовавшегося в «Октябре», было мало, просто
очень мало: соотношение один примерно к десяти.
Ответы на вопрос «Каких современных
писателей вы больше всего цените?» выявили трех таких авторов – Симонова,
Булгакова, Солженицына (соответственно – «Живые и мертвые», «Мастер и
Маргарита», рассказы и «Один день Ивана Денисовича»). Мы, конечно,
по-человечески обрадовались, что в число лидеров вышел и Солженицын. Для меня
он был великий человек. Тогда, в 1968 году, я был страстным его поклонником. Но
«Литературной газете» это явно осложнило жизнь. К тому времени Солженицын уже
вошел в конфликт с властью, началась его переписка, затем – изгнание из Союза.
О публикации наших данных уже и речи быть не могло. В «Литературке» были и
довольно циничные люди, они хотели «усечь» Солженицына. Мы сказали
категорическое «нет»…
Но в моей группе, в Новосибирске,
работал человек по фамилии Гольденберг, филолог, пользовавшийся бесконечной
любовью и всех наших сотрудников, и своих учеников и т.д. Я подозреваю, что он
тогда участвовал в протестных акциях. Во всяком случае, стало проблематичным
допустить Гольденберга к кодированию наших материалов. И, по-моему, мы этого
уже не делали, что вызвало возмущение в кругах Академгородка. Помню, меня
обвиняли бог знает в чем – что я не проявил твердости, мужества и т.д. Но
вообще, моя причастность к диссидентскому движению (даже косвенная) означала бы
сильный удар по легитимности проводимых исследований. Даже по всей социологии –
мы же были в таком хрупком состоянии. Короче говоря, я, видимо, не был
чрезмерно мужественным в этот период. Уступил. Так или иначе, однако, судя по
всему, Гольденберг передал результаты нашего опроса за рубеж, и они появились в
«Unita». Меня вызывает Сырокомский, тогда заместитель главного редактора
«Литературки»: «Посылаю за вами машину». Я понял, что и почему. Машина едет в
редакцию, причем мимо Лубянки. Думаю, а может – на Лубянку? Но она все-таки
свернула, отправилась на Цветной бульвар. А Сырокомскому, видимо, нужна была
«галочка». Он: «Ну, вы знаете?» «Слышал». «Откуда?» Я, между прочим, не знал,
как попали эти данные. Но они попали, что, конечно, было и доказательством
того, насколько Солженицын стал тогда популярен. Так что в этом отношении наши исследования
прямо участвовали и в той политической борьбе, которая развернулась в 1968–1969
годах. Главным образом, по линии литературной критики.
– Когда вы приступали к тем «газетным» исследованиям,
Владимир Эммануилович, в чем состоял ваш собственный научный интерес?
– Это были первые общенациональные
исследования в стране. Первые по серьезной выборке. Конечно, пионером в
изучении общественного мнения был Грушин, в этом нет никакого сомнения. Он
зачинатель этого дела. Но первая всесоюзная научная выборка была применена в
нашем исследовании. И Борис Андреевич не будет этого отрицать.
Я понимал, что представлял интересы
всей социологии. Мы резко поднимали ее статус. Центральные газеты и,
следовательно, Центральный Комитет партии просил нас провести исследования. Мы,
таким образом, как бы включались в большую политику, практическую политику, мы
как бы могли помогать…
– Управлять обществом?
– Да, между прочим, присутствовал и
этот не то чтобы гнусный, но малосимпатичный, с позиции современного общества,
элемент социологии. Ведь все мы, даже я, беспартийный, не говоря уже о Грушине,
Шубкине, Ядове, Здравомыслове, – все мы хотели помочь партии эффективно
управлять обществом.
– Газеты тоже.
– Так оно было. Когда я недавно
выступал в Кембридже, меня спрашивали: «Вот вы говорите, что советская система
спокойно существовала к 1985 году, никаких серьезных проблем у нее не было – а
как же диссиденты? Вы сами, доктор Шляпентох?» Какая чушь! Какой я диссидент?
Уж я-то точно с советской системой не боролся. Даже такие люди, как Солженицын
и Буковский, никакого особенного вреда принести ей не могли. Я уж не стал им
говорить (это было бы слишком), что мы не только не воевали с системой – мы
хотели ее модернизировать, усовершенствовать.
Как мы были непроницательны! Я
хорошо помню: мы летели с Карпинским из Академгородка в Москву летом 1968 года
(он был у нас) и рассуждали о чешских событиях. Все газеты писали, что в
Чехословакии хотят реставрации капитализма – один из лозунгов официальной
пропаганды. А мы сидели с Леном и возмущались: «Какая чушь! Как можно
восстановить частную собственность? Нам голову морочат! Это же невозможно. Как
вот немецкий реваншизм. Это баловство». Что значит мышление тех времен! Вот вам
два неглупых человека – и что они думали летом 1968 года. Фантазия наша не
работала никоим образом…
Ну, а возвращаясь к тому, в чем
состоял мой собственный научный интерес, коротко можно сказать: мы
действительно могли научиться на этих исследованиях методике социологических
исследований. Я тут развернулся в полной мере, потому что в газетах готовы были
пойти навстречу всем нашим пожеланиям. Что только я не придумывал! Были
почтовая анкета и интервью. Мы изучали читателей у стендов, опрашивали
экспертов, меняли порядок вопросов в анкете, соотношение открытых и закрытых вопросов.
Впервые включили в выборку случайную выборку. По почтовым отделениям составили
список подписчиков. Были специальные анкеты для покупателей газет. Покупатели,
подписчики, почтовые анкеты большие, почтовые малые – все это очень важно для
достоверной выборки. Конечно, был и анализ писем – этим занимался Давыдченков.
То есть мы «переоткрыли» все, придумали велосипед заново. Это было масштабное
исследование – у нас в Новосибирске в нем участвовали десятки людей. Когда
проводили опрос по газете «Правда», привлекали партийные организации. Анкету
для читателей «Труда» нарисовал мой друг, художник. Это была анкета с
картинками.
– Она потом вошла в учебники.
– Серьезно? Надо ему сказать. В
общем, для социологов это был праздник души. В 1976 году мы провели для «Правды»
опрос жителей страны – уже не читателей, а жителей страны – и тем самым, можно
сказать, окончательно «застолбили» нашу методику. Мы настолько продвинулись в
этом деле, что когда я приехал в Америку, в профессиональном отношении я
чувствовал себя уверенно. Вы понимаете, что значит в пятьдесят три года
начинать профессиональную жизнь в другой стране. Сильное было испытание для
меня. Приехал (это был 1979 год), и через несколько месяцев – моя большая
пресс-конференция в Нью-Йорке. Пришли представители всех газет. Видимо, им было
интересно услышать, что может сказать о социологии этот «дикарь» с востока. Я
это сразу почувствовал. Вместе с тем я и понял, что американцы – люди очень
самокритичные. Вот такое сочетание: самонадеянность, самоуверенность уживаются
с элементами мазохизма, самокритики. Такая специфическая культура. На той
пресс-конференции настроенность была вполне определенной – ну, что там, мол, за
социология, что вы умеете… А я утверждал, что советские социологи по
составлению анкет на голову выше; в наших условиях узнать политические и другие
настроения людей очень непросто, поэтому приходится быть виртуозами. Ко мне
подошел потом один наш эмигрант: «Ты в этой стране, считай, два дня, у тебя нет
работы. Как ты можешь их ругать?» Однако моя стратегия оказалась правильной.
Через два дня вышла «New York Times» с моим портретом и заголовком: «Советский
социолог считает, что в СССР социология лучше».
– Владимир Эммануилович, ваши исследования, как вы сами
отметили, выявили либеральную настроенность людей, в частности, интеллигенции.
Означало ли это некую подготовку сознания к восприятию необходимости реформ, и
более того – не на этой ли основе и возникла будущая «перестройка»?
– На мой взгляд, интеллигенция
никакого отношения к началу перестройки не имеет. Никакого. Это иллюзия.
– Но почему вдруг появился Горбачев?
– О, это вопрос! Горбачев никакого
отношения ни к Солженицыну, ни к Сахарову не имеет.
– Почему именно к Солженицыну и Сахарову?
– А кто же мог «расшатать»
Горбачева? Что могло на него повлиять, какой механизм? Я же социолог, и
утверждаю, что когда Михаил Сергеевич пришел к власти, у него было ноль
контактов с так называемой либеральной интеллигенцией. Он ее не читал.
– Но в таком случае – что значит «либеральная интеллигенция»?
Вы туда включаете только диссидентские круги?
– А какие другие? Но оставим
диссидентов. Давайте я вам коротко повторю свою «теорию Горбачева».
Горбачев – партийный человек,
который мало чем отличался от своих коллег. Нормальный «продукт» партийной
системы. Он не мог бы добраться до этих вершин, если бы где-то дал либеральную
слабину. Система жестоко отрезала каждого, кто отклонялся от стандарта (в этом
смысле она была эффективная система). Он добрался. В той среде были какие-то
элементы в пользу реформ, экономических, например, но не имевших никакого
отношения к политике, идеологии. Тогда, в 1986 году, Горбачев был абсолютно
нормальным лидером, с абсолютно советской идеологией. Он созывает совещание
«стахановцев» и говорит слова, которые вполне могли быть опубликованы в 1935
году – как плохо гнаться за «длинным рублем», как важны моральные
патриотические стимулы. Эта эмпирика показывает: сознание в 1986 году было
стерильным в отношении свобод, либеральных реформ и т.д.
Вообще-то говоря, Горбачев был
приведен к власти вовсе не для либерализации страны, не для «перестройки».
Политбюро за него голосовало, КГБ его поддерживало, армия его поддерживала
только для того, чтобы он мог усилить военный потенциал страны. Доказательство:
та же эмпирика. Программой Горбачева было «ускорение технологического
прогресса». Так это же очень важно! У Дубчека, скажем, была широкая либеральная
программа. У Горбачева ее не было. Он пришел к власти как представитель
военно-промышленного комплекса, армии, КГБ, ЦК для восстановления военного паритета
с Америкой, который зашатался из-за рейгановских «звездных войн». Он зовет
Аганбегяна и разрабатывает «экономическое ускорение». Интеллигенция молчала. Не
верила, когда Горбачев объявлял, что хочет каких-то реформ. Она его боялась,
как огня, видела в нем чуть ли не провокатора – так было в 1985–1986 годах.
Горбачев толкал советскую интеллигенцию, а не наоборот. Чтобы ускорить
экономический прогресс в стране, нужно привлечь к этому массы, интеллигенцию;
если соединить социализм с большим участием масс, эффект будет грандиозным –
такова была его замечательная идея. Я ничего не имею против, но никакого это
отношения к интеллигенции шестидесятых годов не имеет… Настоящей революцией для
него стали поездки за рубеж и беседы с Яковлевым, который несколько лет был
послом в Канаде.
А дальше – уже логика «перестройки».
Экономического прогресса не получилось, прямо-таки наоборот – экономика начала
расшатываться. Потому, что ослабли контроль государства, роль партии, а данная
экономика привыкла действовать в таких-то рамках. Система была ведь очень
продумана, по-своему хорошо организована. Если вы начинаете ее «трогать», не
очень осторожно реформировать – ничего хорошего для этой системы не получится.
Так и вышло. И решено было что-то делать уже в области политики…
– Значит мы должны согласиться, что тогда, в 60-е годы,
либерально настроенная пресса отнюдь не влияла на общественные настроения?
– Ну, почему? В тот период пресса
сумела в общем-то содействовать развитию либеральных настроений в стране.
Конечно, в той мере, в какой это позволяла партия. У вас как-то невольно
получается, что некую самостоятельную роль тогда играло общество. А было ли
общество? Для меня понятие «общество» звучит как-то фальшиво. Были население
страны, его отдельные группы, интеллигенция, массы. Вот это для меня реальные
понятия, имеющие отношение к тому периоду. Скажите, какое влияние вы оказали на
серьезное решение правительства, руководства страны?
– Возможно, следует говорить о влиянии на формирование
системы ценностей…
– Верно, но между прочим это
большой-большой вопрос, потому что мы видим, как велика сегодня в России
популярность советских ценностей. Фантастическая популярность: по всем опросам
общественного мнения две трети – за социализм. Конечно, среди этих «двух
третей» больше старых, чем молодых. И тем не менее.
К 1985 году большинство населения
страны верило в преимущества планового хозяйства, общественной собственности на
средства производства, верило в культурное, моральное превосходство Советского
Союза над Западом. Глубоко верило, было глубоко патриотично и вполне искренне
поддерживало внешнюю политику советского правительства. Даже Афганистан. Так
что ничего мы с вами тогда не достигли. И, с моей точки зрения, никакого
влияния на дальнейший ход событий не имели. Пришел в руководство страны новый
человек – а о том, что было далее, мы уже говорили.
– Владимир Эммануилович, а не есть ли это уже ваш сегодняшний
взгляд – сегодняшними глазами на ту действительность? Причем человека, уже
смотрящего со стороны и на другое общество?
– Вы абсолютно правы. Опасность
этого существует, конечно. То, что мы сейчас обсуждаем, – интересный,
драматический вопрос. Это для фильма, для пьесы. Вот мы видели с женой в
Лондоне замечательную пьесу Фрайена «Копенгаген»: разговоры Гайзенберга и
Нильса Бора в 1941 году. Речь о том, что Гайзенберг, который был руководителем
атомной программы Германии, не сумел создать бомбу. Не мог как физик или не
хотел, потому что боялся? Вот вопрос. Так или иначе, но какими-то действиями он
парализовал ту программу. И ни сам Гайзенберг, ни другие не могут понять: какие
были у него мотивы, и что в итоге из этого получилось. Очень интересно. Пьеса о
неопределенности мотивов. Никто не знает мотивы людей общества и т.д.
Что получилось у нас, какая у нас
драма для пьесы? Драма такова: сидят интеллигенты и думают – какую роль они
сыграли в тех процессах, которые произошли в стране? Мы – социологи, журналисты
– печатали в прессе всякие там статьи с подтекстом…
– Кстати, вы же тогда активно публиковались, и ведь был мотив
печатать свои статьи?
– Конечно. Во-первых, тщеславие,
которое всегда присутствует. Ну и – принести пользу, внести вклад в либеральное
дело. Мы не могли бы работать, если бы не думали, что это на пользу. И не
только думали – мы считали себя, так сказать, бойцами фронта. И когда я уезжал,
мой друг был горячим противником отъезда. Он говорил (да и не только он): «Ты
покидаешь линию фронта. Ты – дезертир!» Я ему что-то отвечал довольно жестко…
Все это было, не отрицаю. Я очень
гордился, скажем, своей статьей «Послевкусие» – была у меня такая
свободомыслящая статья, все удивлялись, как это ее опубликовали. Я охотно
печатался в «Литературной газете», других изданиях, собирал, кстати, огромные
аудитории, когда рассказывал о наших исследованиях – словно тенор. А вот в той
нашей пьесе скажу: «А никакого влияния на 1985 год все это не оказало». Это
будет не совсем точно. На самом деле все пришло в движение – но уже потом, в
1987–1988 годах, когда Горбачев наконец-то убедил интеллигенцию, что
действительно что-то хочет сделать в области политики, идеологии и т.д. Вот
тогда была мобилизация, тогда появились «прорабы перестройки». До этого они
молчали, в крайнем случае печатали либеральненькие, скромненькие статьи. Все
изменилось с появлением «Детей Арбата». Вот тогда все поняли. Вот тогда начался
кумулятивный процесс.
– Вам, видимо, ближе проблематика гуманитарно-правозащитная,
скажем так, нежели социально-экономическая?
– Но видите ли, в чем дело. Даже в
брежневские времена экономические дискуссии допускались. И даже в брежневские времена
функционировал ЦЭМИ. Но они были абсолютно бесполезны. Это вода в песок. Они не
оказали никакого влияния на дальнейшие события.
Конечно, все получалось не так, как
мы ожидали. Такова жизнь вообще, и все в ней есть.
– Владимир Эммануилович, а вы следите за нашей современной
прессой?
– Я и выписываю газеты, и читаю их
внимательно. Печально, что пресса оказалась под контролем олигархов. Такое
циничное, грубое влияние денег. Это горестный факт.
– На ваш взгляд, у нее есть будущее?
– Это опять-таки зависит от общего
политического процесса в стране. Действительно печально, что прежде чем
прочитать статью, ты должен думать над тем, кто контролирует эту газету (в
Америке у тебя нет такого ощущения). Хотя плюрализм тем не менее существует.
Газеты всегда ценны аналитическими материалами, мнением журналистов, мнением
авторов. И все разговоры о том, что в скором будущем их неминуемо вытеснят
телевидение, Интернет, я считаю несерьезными. Во всем мире газеты нужны, а в
России вдруг они перестанут быть нужными. Несерьезно.
] ] ]